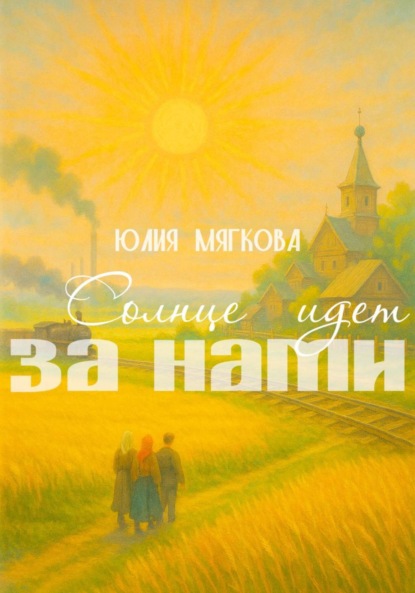
Полная версия:
Солнце идёт за нами
Не тратя время на разговоры, активисты сразу начали переворачивать дом вверх дном. Таисья отчего-то была твердо уверена, что икон не найдут, и вдруг она вспомнила, как в апреле 1911 года у них прятался Курт. Василий же удивлялся про себя тому, что они, простые люди, идут против власти, но ему нисколечко не страшно…
К сожалению, фамилия башкира, спасителя православных святынь, стерлась из памяти: Мухаметов или Магометов, а соседи с улицы 8 Марта стали поговаривать, что будто бы Семёновы задружили с какими-то Мухамедшиными со станции.
Глава 2. Огненный столб
Девятого апреля 1941 года весь Южный Урал гудел как растревоженный улей, да и было отчего. В чистом, без единого облачка, голубом небе показался солнцевидный шар, пролетел над городами и селами и оставил за собой огненно-красный столб, некоторое время державшийся над крышами домов, лесами, полями и реками.
– Пожаловал Бог перекладиной, только столба и не хватает, – ругалась в сердцах Александра Лежнева.
– Огненный столб войну пророчит, а сыновья как раз на возрасте. Лешку-то и забирать не надо: второй год у какой-то новой границы служит.
23 августа 1939 года СССР и Германия заключили соглашение, по которому наша западная граница стала проходить по линии Керзона. Советское руководство свернуло работы на «старой границе», «Линии Сталина», и приступило к срочному укреплению нового рубежа, называемого «Линией Молотова».
– Маманя, никакой это не Божеский знак, а небесное явление. Мне Нелли сказала, что метеор или болид. И не столб это вовсе, а шлейф, состоящий из…, – начал было объяснять Вася, младший сын Лежневых.
Но отец его, Афанасий, нахмурился и перебил:
– Опять успел к своей Нельке сбегать. Двадцать шесть лет девке, вроде образованная, в клубе работает, книжки раздает, а с шестнадцатилетним парнем спуталась.
– Батя, мы расписаться хотим, чтобы все было по-честному.
При этих словах мать гневно осадила сына:
– Парнишке голову кружить, чтобы грех девичий прикрыть, – это, по-твоему, по-честному? Несмышленыш!
Афанасий, не любивший долго рассуждать и привыкший сразу действовать, схватил швейную машинку и, обернувшись, через плечо строго приказал Василию:
– Оденься почище и поедем!
– Мне на работу еще нужно сходить, а потом в клуб. Мы спектакль ставим, «Вишнёвый сад». А после – в кружок. Я хочу на инженера выучиться и такое радио изобрести, что его смотреть можно будет каждому у себя дома, как в клубе – кино.
– Будет тебе и радиво, и кино, садись давай на сено.
Ничего не понимающий Василий уселся рядом с нарядной матерью и вопросительно на нее уставился. Та ответила на его недоумевающий взгляд:
– Жениться хочешь, вот и едем по деревням невесту искать.
Вскоре их Березовка осталась позади. Располагалась она на полянах среди светлых березовых лесов, перед которыми вдруг расступились вековечные сосны. Оттого и получила такое название.
Отец гнал Гнедого не жалея, несмотря на весеннюю распутицу. Василий откровенно плакал, но ослушаться отца не смел. Тот был вспыльчивым, скорым на расправу, и сыновья с детства привыкли подчиняться ему беспрекословно. Но суровость Афанасия можно было в какой-то мере и оправдать: то, что он пережил в 18-м году, не всякому под силу; иной бы в уме повредился. Пятнадцати лет отроду оказался он в красном революционном отряде. Такие же парнишки, как и Афанасий, свято верившие в дело Ленина и мечтавшие отдать жизнь за святое будущее, были брошены на борьбу с белочехами под Екатеринбургом. И сложили они свои буйные головушки, так как военному искусству их никто не обучал. Весь отряд изрубили белочехи, отличавшиеся особенной жестокостью. Вот и ему, Афоне, оставалось жить совсем немного: коня под ним уже подстрелили, а пешего быстро догонят, не успеешь и опомниться. Хорошо еще, если сразу зарубят, а то в плен возьмут. Белочехи часто пытали вот таких подлетков, как он. Задыхаясь, делая последние немыслимые усилия, чтобы убежать и скрыться от своих преследователей, заметил Афанасий под горочкой небольшой полузасыпанный лаз. Недолго думая, нырнул он в подземелье, слыша за собой тяжёлый топот и гортанные крики всадников. А когда все стихло, обнаружил, что стоит по колено в воде в каком-то подвале. На сколько отошел он от расщелины, не помнит. Отдышавшись, решил достать из нагрудного кармана спички, зажег не сразу – отсырели, и тут закричал от ужаса: по стенам подвала на ржавых цепях белели человеческие скелеты. Долго не мог он обрести присутствие духа, а когда пришел в себя, вспомнил про материнское благословение: та, рыдая, завернула ему в платочек земельку с родного погоста; пожалел он тогда мать, не выкинул, положил узелочек в карман, да так и забыл про него. По щепотке, по крошечке на ощупь посыпал на скелеты – земле предал – и попросил помочь ему выбраться. И почуял он, а может, показалось, ветерком повеяло, и пошел наугад за этой свежестью. Долго брел: один ход сменял другой, иногда пробирался по грудь в воде, иногда узкий лаз делился на еще более узкие проёмы, а он все шел и шел, иногда на четвереньках, иногда ползком, иногда в полный рост. И в тот момент, когда совсем уже было отчаялся, запах поля ударил ему в нос, кромешная темень рассеялась и через минуту он вылез из какой-то заросшей бурьяном щели. Поклонился он на три стороны и уснул здесь же, в бурьяне. А утром увидел трех коней не расседланных – ни один белочех не выбрался из подвалов: видно, не было у них родной земельки в кармане. Никому не рассказал об увиденном Афанасий, вернулся в родимую Березовку в 21-м году после тяжелого ранения, женился на соседке Александре, стал отцом двух сыновей и дочери Кати.
Алексей и Василий удивительно похожи друг на друга, оба невысокого роста, но крепко сбитые, широкие в плечах, в них с детства чувствовалась недюжинная сила. Небольшие голубые глаза и округлые, высоко приподнятые брови придавали слегка удивленное выражение. Аккуратные носы «уточкой» тоже обращали на себя внимание. И даже тонкие, ниточкой губы не портили приятного впечатления, потому что братья часто смеялись, обнажая широкие белые зубы. Кудрявые светло-русые чубчики дополняли общий портрет. Воспитывал их Афанасий «кнутом и пряником». Наказывал, конечно, часто, но и баловал нередко. Были у братьев игрушки не только самодельные, но и покупные, а когда подросли Лешка с Васькой, то построил им в огороде крохотный домик с башенкой. С весны до осени возились они там вместе с соседскими ребятишками. И работать с детских годов им не позволили, закончили они школу-семилетку, а старший еще и шоферские курсы в городе Кыштыме.
Ехали молча, и только на околице села Рождественского, которое в народе называли Тютняры, отец заговорил с сыном:
– Женишься и баста!
Оглядевшись, Афанасий заметил старика, с любопытством смотревшего на них из-за забора крайнего дома.
– Доброго здоровьица, дед!
– И вам не хворать.
– Невесты-то есть у вас в деревне? Вот сына женить хочу.
Старик внимательно посмотрел на заплаканного Ваську и ответил:
– Видно, сильно нашкодил постреленок. А девушки есть у нас, как не быть. У вдовы Тарасихи девки на выданье. Может, какую и выберете. Только там без приданого. А девки ничего: честные, работящие. Если дадите чекушечку, так сватом буду. Ивашкой, дедушкой Иваном меня кличут.
– Дадим. Садись в телегу, показывай избу.
Дом Тарасихи располагался в центре деревни, был большой, просторный, на четыре окна, но мужской руки не чувствовалось: одно окно треснуло и было заклеено бумагой; оторванный край толя свисал с крыши, обнажая потемневшие стропила; резные наличники давно не крашены; забор покосился, и много досок в нем недоставало. Ворота распахнуты настежь. Афанасий с новоиспеченным сватом зашли во двор.
Напевая песенку, девушка в подоткнутой юбке мыла крыльцо, тщательно и в то же время сноровисто тёрла половицы.
– Не скажешь, что худо кормленная, – промолвил старик. – Вон зад-то шибко круглый.
Девушка вздрогнула и одернула юбку. В анфас она оказалась еще лучше. Светло-серые глаза, опушённые длинными ресницами, небольшой, правильной формы носик, русые завитки волос, спускавшиеся на лоб, статная фигура, тугая грудь – всё восхитило в ней Афанасия. Только одно смутило его: стриженые волосы. Дед Иван, как бы отвечая на эти мысли, посетовал:
– Жалко, что косу Серафиме остригли. Вишь, волосы-то какие густые. Мыла на них не напасешься.
Поняв, что ее сватают, девушка убежала в дом, и вскоре на пороге показалась дородная пожилая женщина.
– Проходите, гости дорогие. Правда, в избе у нас не прибрано, не готовлено.
И далее она затараторила то, что всегда говорят хозяйки при визите нежданных гостей.
Едва выпив по чарочке, дед Иван сразу взял быка за рога:
– У вас товар, у нас купец. Люди мне знакомые, живут богато, всего-то два сына да дочь у них. Дочка-то отделена уже, вышла взамуж в Карабаш. Двух коров держат, птицу всякую, порося. Одного-то из сыновей тоже отделят со временем: копеечку на новый дом скопили… Вы посмотрите: парень видный, кудрявый, семь классов кончил, будет начальником каким не то. Да и живут они по-старинному, сын из воли отца не вышел.
Но Тарасиха заартачилась: молода, мол, Серафима, «шыснацать» годков всего, пусть из старших двух выбирают. По ее знаку Анна и Полина вышли из-за красной занавески, их лица от волнения были такого же кумачового цвета. Но Афанасий уперся:
– Сватьюшка, мы Фиму берем и без разговору, нам она по душе пришлась.
Дело решила швейная машина, вовремя подаренная Александрой.
Не мешкая, Афанасий с Тарасихой отнесли метрики в сельсовет, поставили печати. И стал Василий Лежнев женатым человеком. Для него все произошедшее казалось сном, он никак не мог поверить, что это случилось с ним на самом деле и с Нелли придется теперь расстаться. Разглядел он свою жену только на обратном пути. Вечером того же дня они отправились домой: хозяйство надолго не оставишь. И как ни странно, Фима ему понравилась: всю дорогу она улыбалась смущённо и льнула к свекрови. Александра гладила ее по голове. Катерина, родная дочь, и та так не ласкалась к матери. Чтобы подавить смущение девушки, родители Васи начали разговор.
– Красивые у вас места в Тютнярах, – заметил Афанасий и спросил:
– А откуда такое название?
– Тютняры – это переселенцы, что прибыли сюда из Саратовской губернии. Они обосновались в Кузнецком, Беспалове, Губернском и Смолине. И все эти сёла Тютнярами стали прозываться, – объяснила Серафима.
– И озера какие большие! Наверное, рыбой богатые?
– Да. Это Большие и Малые Ирдяги, что по-башкирски означает «место спора». Сюда со всей округи собираются люди для выяснения отношений.
А рыбы действительно много: и карп, и карась, и линь водится. Берега и дно известь содержат, она на удобрение идёт.
Поэтому-то и растительность разнообразная: водяная гречиха, камыш, полевица собачья, ей хорошо коз кормить; кровохлёбка, у нас ее тугостулом зовут, сколько детишек от кровавицы в стуле спасла, от дизентерии то есть; лисохвост, он на тростник похож, мы с сёстрами из его стеблей коврики плетём, от заморозков картошку да томаты укрывать; боярышник, старым людям от сердцебиения в чай заваривать; пырейник да череда, от накожных болезней; чина болотная, цветы её как маков цвет, алые, лечат от воспаления лёгких; кровь густую, сиропную у тучных людей ещё этим растением разжижают; щавель, из него щи хороши; девясил и шалфей, они с малиной от простуды хороши, бывало, и от глотошной спасали, от дифтерии по-научному, редко, конечно…
Тут Александра перебила Серафиму:
– А стряпаете в семье что обычно?
– Как овдовели мы, осиротели, всё больше яблочник, – и, отвечая на недоумённые взгляды, пояснила, – картошка это перетёртая с водой, забелённая молоком. Парёнки из брюквы да репы, калины, если мёд был. Свекольник почти каждый день, свёкла всегда хорошо у нас урождается. Вареники да пирожки с тем, что есть, иногда и с сыпуном. Сыпун – это поджаренная с луком мука. А при тяте тёрны жарили с мясом, оладьи это из тёртой сырой картошки с перекрученным мясом. И на зиму съестное готовим как все – лето припасиха, а зима подбериха: бочку капусты квашеной, бочонок мочёных яблок с брусникой да клюквой; огурцы делаем по-новому, в банках стеклянных с уксусом; грузди солим, рыжики; сушим опятки, правда, они жёсткие получаются; пастилу сухую да леваш из ягод разных, варенье, конечно, да сахару маловато.
Слушая Серафиму, Лежневы удивлялись ее познаниям: «Не хуже Нельки образованная, а самое главное, домовитая да покладистая, не егоза, не заноза».
Вася, хоть и обуревало его море чувств, от злости и смущения до удивления и симпатии к этой большеглазой стриженой девчонке, тоже вставил «пять копеек»:
– А книжки, Фима, вы какие читаете?
– Я поэзию люблю про Родину:
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой!» –
и дальше полились стихи Лермонтова об Отечестве, о Доблести, о Чести…
Проезжая возле величественной церкви, Александра поинтересовалась:
– А что храм-то? Закрыли его?
– Да уж лет пять как закрытой стоит. И колокола все сброшены. Отец-то Михаил с самого основания службы вел, с 1906 года. Освятили церковь Тихвинской иконой Богоматери.
Многое еще про свое село рассказала Серафима. Есть у них даже Герой Советского Союза Василий Сергеевич Архипов. Это высокое звание ему присвоили в 1940 году за подвиги в войне с Финляндией.
«Хорошая девушка досталась Васеньке», – снова и снова думали про себя Афанасий с Александрой и радовались за сына.
Никто и не подозревал тогда, что счастливых дней осталось совсем немного и страшное слово «война» ворвется в жизнь каждого советского человека.
***
В семье Семеновых тоже видели пролетевший по небу огненный шар со шлейфом и горячо обсуждали это событие. У всех на языке вертелось слово «война», но они старательно избегали произносить его, а поговорить-то, особенно после Божьего знака, очень хотелось. Таисья сразу сказала, что это предупреждение за разрушенный Белый храм. За такое святотатство еще пристигнет людей беда.
– В 36-м году закрыли, раздели его до исподнего – все иконы, всю утварь церковную вывезли, а после Федька Бронза с дочерью колокола сбросили – лишили Белую церковь голоса…, – с горечью говорила Таисья. – А потом земля сотряслась: храм взорвали, а он постоял еще секунд двадцать, чтоб запомнил народ его красу и … враз осел, будто его и не было.
Дед Василий, думая о небесном предупреждении, расспрашивал Саньку о его службе в армии, хотел узнать, сильны ли мы, если враг вдруг нападет на нас.
– Дак я когда был на срочной-то. В двадцать седьмом году. С тех пор многое изменилось.
Но, охваченный воспоминаниями, стал рассказывать о Ленинграде, где ему довелось служить, о том, как водили их зимой на пустынные заснеженные берега Черной речки, о памятнике Пушкину.
– Тоже, видно, предчувствовал гибель свою. На вечере у какой-то княгини, увидев перемешанные красные и белые камушки, заметил: «Очень напоминает кровь на снегу». А теперь вот стоит кирпичный столбик с иконкой в маленькой нише на том месте, где ранен был поэт. И больше ничего нет.
– Это тогда было, – перебил Санькин рассказ звонкий голос Марии, единственной из семьи учившейся в институте заочно да еще работавшей в сберкассе. – Я читала, что в 30-е годы поставили временный памятник – колонну по проекту Катонина, а в 37 году и вовсе гранитный обелиск воздвигли. Не забыли великого поэта:
Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
Не зарастёт к нему народная тропа!
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа!
– Тише, тише, ребятки, – примирительно проворчал Василий. – Саньк, ты лучше об оружии расскажи, о маневрах…
– Да что же я знаю? Прослужил всего-ничего, меня же комиссовали по зрению.
– Ну хоть какие ружья-то в СССР?
– Трёхлинейки.
Но Мария снова перебила его:
– Трёхлинейки были при царе Горохе, а теперь, я читала, советские конструкторы разработали автоматическую винтовку, самозарядный карабин и пулеметы новые создали, например, «Дегтяревский».
И Мария начала вдохновенно рассказывать о новых самолетах, танках, пушках. Недаром она была комсоргом в школе, побеждала в военных играх: спортивном ориентировании, «Зарницах», – неплохо стреляла, увлекалась задачами по военной топографии.
– А что касается Уфалея, то наш город гремит на всю страну. За два года построили никелевый завод и выплавили первый никель и кобальт. А наш серый мрамор использовали при облицовке одной из станций Московского метро.
Мария раскраснелась, встала как на политинформации, темно-каштановые колечки волос прилипли к вспотевшему лбу; широкие густые темные брови изгибались меленькими змейками; серые с золотисто-зелеными крапинками глаза метали гром и молнию; красивый тонкий нос чуть подрагивал; полные, всегда розовые губы повишневели, как впрочем и нежные щеки, и шея, и вздымающаяся от волнения грудь, – а девушка все рассказывала, активно помогая себе жестами тонких, нервных рук.
Василий, с любовью глядя на дочь, подумал: « Встречает – провожает ее, слава Богу, парень хороший», Паша Менщиков, работящий, добрый, да и лицом-фигурой вышел». И, не замечая, что тихонько смеется, вполголоса обратился к Таисье:
– Почто ты вчерась Пашку-то ухватом отходила?
– Да посватался, стервец, не вовремя, я-то тяжелые чугуны подымала, чуть не опрокинула. Вот он под горячую руку и попался. Да не обиделся Павел, говорит, что завтра опять придет, когда поостыну я.
– Вот пара-то, всем на зависть будет, – проговорил Василий, но вдруг какое-то нехорошее чувство прервало приятные мысли и внутри отчего-то защемило.
Стало жаль Марию, и он вспомнил, как бережно нес ее, маленькую девочку, дрожащую, но не плачущую, чудом не убитую копытами их собственного коня Серко, после чего она стала немного заикаться. Вспомнил, как учительница Зинаида Федоровна жаловалась, что Маше не хватило белого хлеба и школьная повариха принесла черного, а Машутка обиделась и бросила его, попав учительнице в тарелку. А вот Маша-подросток: парни, балуясь, решили попугать девок, моющихся в бане, заскреблись в двери и оконце, девки завизжали, беспорядочно стали натягивать на распаренные тела свою ли, чужую одежду, а Маша схватила ковшик кипятка, ладно, неживого, да и плеснула особо наглому парню прямо в рожу.
Заканчивая десятый класс, Мария целый месяц ходила в далекую Зверинку учить первоклашек: их учительница серьезно заболела, а заменить, видно, было некем.
Все это мгновенно пронеслось в памяти, и Василий зашептал: «Господи, помоги дочери моей, спаси, сохрани и помилуй ее от всяких бед».
***
На речке Нязе, где впадает она в Уфу, затерялся среди уральских хвойных лесов маленький поселок Нязепетровск (с 1944 года – город), основанный братьями Мосоловыми да Львом Расторгуевым еще в 18-м веке. Дважды почти полностью был он разрушен: вначале при Емельяне Пугачеве, затем белочехами 1918 году. Упрямые нязепетровцы восстанавливали и отстраивали свой поселок заново, и, что интересно, во все лихие времена уберегли свой храм Петра и Павла, пусть без колоколов, закрытый и бездействующий, но непоруганный. Стойкие люди в этом суровом краю.
В семье Недоспеловых, коренных нязепетровцев, никакого «огненного – столба» и не заметили, не до этого им было. У Константина и Федоры 12 детей, только успевай поворачиваться. Недоспеловых по-уличному прозвали Кулики, потому что были они угрюмы и нелюдимы. Кулик открыто высказывал недовольство властью: его отца в 37-м году репрессировали как кулака, а все имущество забрали: 40 овец, двух коней-тяжеловозов, трех коров и сани. А ведь Константин воевал за новую власть. Отец его в 18-м году отправил постоять за царя, а он тогда к красным переметнулся. Когда вернулся в 24-м году с алой звездой на будёновке, отец ему при всём честном народе сказал:
– Отделяю вас от себя: дом, корову, коня – все отписываю невестке Федоре Бобышевой, что 1900 года рождения, так как она работала, а не шлялась по стране, как ты, сынок мой родимый.
И вот отца арестовали. Сколько ни узнавали о его судьбе, все безрезультатно, как в воду канул человек.
Недоспеловы жили в районе Тверской (так называли широкую центральную улицу поселка). В народе издавна существовал обычай: не только прозвищами людей наделять, но и улицы, поселки тоже носили неофициальные названия. Другой район, что располагался на окраине, звали Рогаткой. Будто бы в прошлом веке там останавливались осужденные на каторгу, на шее которых были надеты рогатки, мешавшие побегу в тайгу.
… В 1941 году зима выдалась на редкость холодная, и к апрелю скотина все сено приела. По этой причине двое сыновей во главе со старшей дочерью, красавицей Маней, были командированы на поиски не вывезенных из-за распутицы или ещё по какой причине стожков и на сбор еловых лапок, чтобы лапки заготавливались в августе, а не в апреле – дело неслыханное, – но делать нечего – надо же чем-то кормить коров.
Весной лес не такой темный и страшный, как летом. В августе от разросшихся ветвей он становится почти непроницаемым. Мохнатые лапы елей переплетались от корней до самых верхушек так плотно, что ни одни луч света не проникал согреть волглую землю. Путь преграждали завалы и буреломы в человеческий рост. Ели, имея поверхностную корневую систему, часто падали, нагромождаясь друг на друга, гнили. Болотистая почва рождала несметное количество мошек и комаров, которые забивались в нос, рот и уши и от которых не спасала даже самая мелкая сетка. Бывало, в таких лесах отойдет человек на две-три вытянутых руки от спасительной просеки да и сгинет. Недаром народом сложена пословица: «В сосновом лесу – молиться, в берёзовом – веселиться, а в еловом – удавиться».
Опасаясь за младших братьев, Маня то и дело покрикивала:
– Около дороги лапки срезайте, вглубь не ходите, увязнете, потеряетесь.
Промучившись весь день, изрядно промокнув, с тяжелыми влажными вязанками лапок на плечах, троица представляла собой жалкое зрелище. На грех у околицы им встретился сосед Валентин Ермолаев, «самостоятельный» человек. Отца его раскулачили и сослали на Урал. Здесь переселенцы прижились и завели новое хозяйство. Валентин был грамотным и работящим мужчиной. Он давно присматривался к Мане, высокой, статной, с огромными серыми глазами, темными волнистыми волосами, да робел. А тут увидел ее, чуть ли не в лохмотьях, продрогшую, уставшую, и решился заговорить:
– Чего это вы как погорельцы?
– Типун тебе на язык величиной с орех, – огрызнулась бойкая на язык Маня, но рассказала, что нечем кормить скотину.
– Есть о чем горевать, у меня имеется сена запасец. Помогу по-соседски.
В этот день, 9 апреля 1941 года, завязался между Маней и Ермолаевым узелок, который ох как не просто было разрубить.
***
Великая Отечественная война почти с первых дней вошла в семью Лежневых. Вася, прибавив себе год, добровольцем ушёл на фронт. Его молодая супруга Серафима, не пожившая в замужестве, решила повидаться с мужем. Сборный пункт будущих военнослужащих находился в Чебаркуле, и она решила из Кыштыма идти пешком.
– Не приведи, Господь, убьют мужа на войне, так хоть дитя останется.
Как преодолела она такой долгий путь, сама не понимала. Удивился Василий, увидев жену:
– Как ты сюда попала? С кем приехала?
– Пешком пришла, – еле слышно проговорила уставшая до изнеможения Серафима.
Но глаза светились счастьем: «Увидела-таки Васеньку». Молодые солдаты завистливо бросали восхищенные взгляды на красивую юную женщину с густыми завитками волос.
– Она у тебя настоящая героиня, – хвалили её его новые друзья.
– «Есть женщины в русских селеньях…», – продекламировал кто-то, видимо, из образованных, знавших русскую классическую литературу и умевший вовремя процитировать нужные строки.
Серафима и Василий не могли наговориться и насмотреться друг на друга, вспоминали день сватовства, обратную дорогу в Берёзовку и два счастливых месяца их совместной жизни.
Утром, провожая Серафиму, каждый из бойцов, видимо, безотчётным желанием сохранить хоть своё имя в той мясорубке, которая предстоит им всем, наказывали женщине назвать дитя своим именем:
– Гришкой назови.
– Николаем.
– Нет, нет, Иваном нареки.
Но не завелось у нее ребёночка, и записалась она в трудармию и всю войну проработала шофером. А Василия вначале определили в училище связи как грамотного и толкового парня, разбирающегося в технике.
***
Александру Семенову пришла повестка явиться в военкомат. Там внимательно просмотрели все документы, выяснили, что по зрению был комиссован со срочной службы, однако направили в районную поликлинику к глазному в город Касли.



