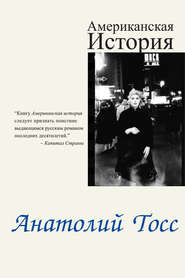скачать книгу бесплатно
– Тебе помочь? – спросил он, передавая мне чемоданчик, и в его неуверенном движении я тоже прочитала растерянность.
– Нет, спасибо, – я попыталась улыбнуться, – я сама. Позвони мне утром, да? – И, взяв все же себя в руки, я подошла к нему и, вытянувшись, тронула его губы своими. – Я буду ждать, да? – еще раз попросила подтверждения я.
Он улыбнулся и кивнул, мой короткий поцелуй чуть расслабил и меня, и его, подсказав, что если мы и теряем друг друга, то все же лишь на одну ночь.
На новую работу я выходила через день, меня ожидало еще одно беззаботное утро, но тем не менее я проснулась в шесть во взвинченном нервном возбуждении и уже не смогла уснуть. Я встала, накинула легкий халат и пошла в ванную, подтянув недотягивающийся телефон до предела и оставив неприкрытой дверь на случай, если раздастся звонок.
Потом, когда я рассказывала Марку про свои страхи и мы вместе смеялись над ними, он сказал, что тоже проснулся утром, хотя для него вставать рано было непривычно, и не раз порывался мне позвонить, но сдержался, боясь меня разбудить.
Когда я вышла из душа и посмотрела на часы, было уже около семи, и я подошла к окну, не зная, чем занять себя в такую рань. Из дома я выходить не смела, боясь пропустить звонок, поэтому сварила кофе, взяла валяющийся на столике толстый журнал мод, непонятно каким образом попавший в мою печальную келью, и стала разглядывать изображения роскошных манекенщиц, давно изученных мною досконально от высоких каблуков до замысловатых причесок. Так изучаются диковинные ископаемые дотошным археологом.
Марк не позвонил ни в восемь, ни в девять. Я уже накрасила ногти ярко-красным лаком и сначала тупо сидела, уставившись на них, пытаясь сообразить, когда и зачем я прикупила такой раздражающе кричащий оттенок, а потом побрела в ванную за ацетоном и, заполнив комнату едким запахом, злорадно подумала, что это единственный путь выбить из моих застоявшихся легких гнилой запах истрепанной ворсяной синтетики, намертво прилепленной к полу.
В полдесятого мне пришла мысль позвонить самой, подумаешь, звонила же я ему раньше чуть ли не каждый день. «Если его голос, – подумала я, – покажется мне подходящим, я скажу, что принимаю его предложение и согласна переехать к нему». Я так и решила: подождать еще пятнадцать минут и позвонить самой, но потом отодвинула свой звонок еще на пятнадцать минут, а потом – еще.
Когда он все же позвонил в половине одиннадцатого, меня уже подташнивало – не то от трех чашек кофе, не то, с непривычки, от головокружительного запаха ацетона, не то от подло растекшегося из живота по всему телу нервного волнения. Голос Марка как бы в противовес моему звучал дразняще игриво, совсем не растерянно, как вчера, а даже весело.
– Как спалось? – спросил он, будто зная о муках моей почти бессонной ночи.
– Спасибо, плохо.
Я решила не скрывать волнения. Да и что скрывать, как будто по голосу не слышно.
– Все думала? – почти издевательски спросил он.
– Ага, – призналась я.
Мне опять становилось дурно. Волнение поднималось все выше, обволакивая голову мягкой податливой дурью. Я плохо соображала.
– Ну и что надумала?
– Ты действительно хочешь, чтобы мы жили вместе?
Это был мой акт дипломатии из последних сил. Я специально сказала «чтобы мы жили вместе», а не «чтобы я переехала к тебе», – подчеркивая, что не место главное, а то, что мы будем вместе. Как будто в качестве альтернативы он мог переехать ко мне.
– Да, хочу, – ответил Марк.
Голос его не дрогнул, подтверждая тем самым решительность намерений.
– Тогда я согласна, – с ходу, даже неприлично с ходу, выпалила я.
– Я сейчас выезжаю за тобой.
Его ответ по скоропалительности не очень отличался от моего.
– Сейчас? – не то от восторга, не то от неожиданности удивилась я.
– Конечно, сейчас. Тебе же завтра на работу, сегодня у нас целый день – лучшее время для переезда. К тому же я соскучился.
Это было на редкость трогательно. Все, все тут же отступило – и волнение, и тошнота, а освободившееся пространство заполнила жажда деятельности: приводить себя в порядок, собирать вещи, встречать его.
– Я тоже, – ответила я весело. – Я жду тебя, я тебя завтраком накормлю, – нашла я нелепый путь выразить свою нежность.
– Хорошо, – ответил Марк и повесил трубку.
Он приехал и привез свежие булочки на завтрак, а я, понимая, что выгляжу по-дурацки со своими светящимися от неприкрытого счастья глазами, тут же обхватила его, вжалась и, приникнув головой к его груди, прошептала:
– Это была самая ужасная ночь, знаешь?
Он обнял меня одной рукой, держа в другой пакет с булочками.
– Я даже не предполагал, что за неделю можно разучиться спать одному. Понимаешь, я не знал, куда деть руки, – сказал он. – Как-то они все время мешались.
Я приподняла голову, посмотрела на него снизу вверх и на правах почти жены, ну хорошо, не жены, но все же совсем близкого человека, передразнила:
– Так уж и не знал? Ладно, рассказывай.
Он улыбнулся, довольный моей прозорливостью, но никаких военных тайн не выдал. Я вылила в раковину бадью утреннего недопитого кофе и сварила свежий. Мы сели за стол, я разломила одну из булочек, внутри находилось инородное для мякоти теста тело. Я выковыряла его, понюхала, попробовала на зуб, им оказалось до обиды обыкновенное семечко подсолнуха, хотя и очищенное, конечно.
– Специально в пекарню заезжал, – попытался оправдаться Марк.
Я пожала плечами, надкусила краешек, кофе я пить уже не могла, но булочка была вкусная.
– Знаешь, Марк, есть одна вещь… – сказала я.
– Ты о чем? – спросил он.
– О переезде. Знаешь, ты только не обижайся, но я должна, хотя бы частично, оплачивать квартиру.
Он рассмеялся, именно весело рассмеялся, пытаясь возразить.
– Подожди, подожди, – не дала я перебить себя.
– Хорошо, я слушаю, – согласился он.
– Смотри, я живу здесь, я плачу за квартиру. Я привыкла уже, я это делаю давно, с первого дня. И я хочу жить с тобой, и понимаю, что твоя квартира значительно дороже. Я никогда бы не смогла оплатить ее полностью…
Я так волновалась из-за этого деликатного денежного вопроса, что не знала, как правильно сказать.
– Но я хочу платить то, что могу. Это нечестно, чтобы все расходы брал на себя ты. Это даже будет обидно для меня, это…
Он перебил мой растерянный лепет:
– Не выдумывай. Это моя квартира, я купил ее очень давно, когда она стоила совсем немного. Я не могу и, конечно, не буду брать с тебя денег, я не сдаю тебе квартиру, я хочу, чтобы ты жила со мной. Понимаешь?
Я задумалась. Мне почему-то никогда не приходило в голову, что это его собственная квартира. Теперь-то понятно, что он, конечно, не может брать с меня деньги. Но я действительно не хотела жить бесплатно, я не хотела ни намека, ни подозрения в какой-либо, на самом деле не существующей, корысти. Хотя подленькая мысль независимо от моего желания все же внедрилась в голову: сбросить бы с плеч моего дистрофичного бюджета такую обузу, как квартирная плата, – жизнь стала бы легонькой, как бабочка на летнем газоне.
– Подожди, – сказала я, после того как длительное размышление нагнало складки на моем лбу, – ты ведь платишь за электричество, за телефон, за тепло, за что еще? – Я задумалась, пытаясь придумать, за что еще платят владельцы квартир.
– Плачу, – согласился Марк, так и не дождавшись завершения.
– Ага, – обрадовалась я, – сколько это набегает, если сложить?
Марк задумался на минуту, назвал цифру. Она составляла приблизительно половину того, что я платила за свою вонючую конуру.
– Ну так вот, с сегодняшнего дня это уже не твоя забота.
– Малыш… – попытался возразить Марк, но теперь уже я его перебила:
– Даже не спорь! Все равно это значительно меньше, чем я плачу за свою квартиру.
Я не хотела обзывать ее «конурой» при посторонних, даже при Марке, – все же она, как могла, служила мне столько лет. Я даже вдруг почувствовала к ней неизвестную доселе сентиментальную жалость, из-за очевидного скорого расставания, наверное.
– Ну, если ты так хочешь, пожалуйста, – разрешил мне Марк.
– Я так хочу, – упрямо подтвердила я, как будто речь шла о моем капризе, а не об акте осознанного самопожертвования.
Глава четырнадцатая
Переезд занял, конечно, больше чем одну ездку – в машину Марка ничего не помещалось, и пришлось взять напрокат небольшой грузовичок. День был будний, в такие, кроме бездельников как мы, никто не переезжает, и машин на станции проката было полно.
Всегда поначалу кажется, что вещей-то всего ничего – чего там, несколько платьев, две пары джинсов, туфли, ну и еще всякая мелочь типа белья. Но когда выметешь все из углов, выбросишь на обозрение из забытых ящичков да с полочек все поснимаешь, то организуется пусть и не Хеопса, но все равно солидная пирамидка, на которую взираешь в недоумении: откуда набралось столько всего? И выясняется, что вот именно с этой, скажем, подушкой совершенно невозможно расстаться, потому как привыкла, притерлась уже к ней ухом. А вот тот, например, плюшевый медвежонок связан либо с событием, либо с человеком, и куда ж его теперь? Да и все остальные вещи уже давно не нужные, а может быть, и не нужные никогда, но как отказаться от них? Это все равно что по собственному желанию умертвить какую-нибудь несущественную частичку памяти только лишь потому, что для нее в ограниченной костью мозговой коробке не хватает больше места. Да нет, думаешь, пусть будет, место найдется. И находится.
Я вообще немного сентиментальна и к вещам, и к домам, и, конечно, к прошлому. Сейчас мне казалось, что вещи, как домашние животные, были преданы мне столько лет, служили верой и правдой, разделяли мое одиночество и иногда, в своей бессловесной заботе, утешали и помогали. А я, лишь только мне удалось подняться на следующую, так сказать, ступеньку жизни, сразу предательски, по-подлому бросаю их, беспомощных, обрекая на умертвляюшую ненужность.
Я понимала, что все эти вазочки, тарелки, пуфики, даже журнальный столик, не говоря о других предметах, которые лишь благодаря свой функциональной пригодности еще претендовали на право называться мебелью, в принципе не могли найти места в квартире у Марка. Тем не менее выбросить их я не могла.
Марк предложил сделать дворовую распродажу, когда по дешевке, за символическую плату, люди продают соседям и просто прохожим незамысловатую утварь. Но я отказалась. Может быть, из снобизма, а может, с непривычки, но мне претило сидеть дурой во дворе среди родных, пахнущих домом вещей, да еще назначать за них цену. Взамен я предложила дать объявление в местной газете: «Отдам в добрую семью с детьми преданный и дружелюбный пуфик», чем, конечно же, вызвала у Марка улыбку.
Лишь на следующий день меня озарила счастливая мысль: я устрою прощальную вечеринку для своих, для русских, на которую сможет прийти любой, кто услышит о ней. Вечеринка будет, впрочем, с сюрпризом: каждый, кто захочет, сможет забрать две, но только две, наиболее понравившиеся вещи из моего дома – если что-то может в нем вообще понравиться, – за просто так, конечно.
Идея понравилась Марку. Он никогда не видел моих соотечественников в природных, так сказать, условиях, когда они не обращали бы на него внимания и не пытались вести себя тише и изысканнее, стараясь избегать политически некорректных высказываний, чтобы не сконфузить этого улыбчивого американчика. На моей же вечеринке он, наоборот, сам мог бы раствориться в людях, затеряться и не нарушать, таким образом, первозданный колорит русского общения.
Я позвонила Катьке – наиболее для меня простой и доступный способ оповестить русскую общественность об ожидающейся халяве. На что она, выслушав мою идею, разумно заметила, что задуманная акция грозит неприятностями, что как бы соотечественники не передрались из-за какой-нибудь понравившейся супницы, и назвала мою затею провокацией для честных, но воинственных граждан.
– Да там и спорить не из-за чего. Я, наоборот, боюсь, что никто ничего брать не захочет.
– Наши-то? – с циничной смесью русофобии и антисемитизма, так болезненно свойственной уроженцам самой обширной страны независимо от их национальной принадлежности, сказала Катька. – Не волнуйся, подметут все – нравится не нравится, эстетические чувства роли не играют.
– Да кончай, Катька, перестань. Чего ты всех под одну гребенку, люди разные. Может, никому вообще ничего не нужно будет, – опять попыталась я.
– Не боись, набегут именно те, кому нужно. Нет, даже не так, – она нашла лучшую форму, – нужно им, не нужно, это они потом, дома разберутся. А у тебя в квартире состоится спортивное состязание – схватить ценнее и бежать скорее. Кто больше схватил и быстрее убежал, тот и победил. И потом, как ты будешь контролировать, сколько чего каждый нагреб? Не будешь же ты за ними ходить и лепетать: «Э, простите, это уже третья ваша вещь. Это вам не полагается, ну-ка, отдайте».
Я молчала.
– Я не знаю, – сказала примирительно Катька, почувствовав, что я расстроилась, – ты ведь хочешь нечто вроде прощального вечера устроить и раздать людям свои пожитки, чтобы они тебя как бы вспоминали, правильно? Ты ведь не хочешь базара из этого устраивать?
Она была права.
– Не хочу, – согласилась я.
Мы еще поболтали и решили, что все же мы позовем только знакомых, все равно наберется человек двадцать-тридцать. Вещи мы будем раздавать, как в лотерее, как когда-то в детстве, в первых классах школы, когда дарились подарки детям, у которых наступил день рождения. У нас, например, учительница вызывала какого-нибудь шалопая к доске, ставила спиной к подаркам и лицом к шеренге именинников, выстроенных тут же, и сама, держа в руке взятый наугад подарок, спрашивала: кому? А стоящий спиной называл имя очередного счастливого именинника. Такой подход был справедлив, а главное, педагогичен, даже Катька с этим согласилась. А мы ведь тоже хотели все сделать педагогично, вот потому и переняли опыт советской школы, впрочем, для несколько отличного контингента, да и при других обстоятельствах.
Мы назначили нашу раздаточную вечеринку на ближайшую субботу, и гости начали стекаться где-то к семи часам. Конечно, никакого стола не было, так, несколько упаковок пива, бутылки вина и ликера, бутерброды с колбасой и сыром, ну и прочая закуска из соседней кулинарии.
Людей я в основном знала, хотя не всех, так как кто-то привел с собой либо нового ухажера, либо новую девочку, которых я раньше не видела, поскольку с тех пор, как познакомилась с Марком, отошла от русской светской жизни. Гости были в большинстве молодые, хотя попадались отдельные особи, как правило, мужского пола, лет сорока, забредшие со своими более молодыми напарницами.
Катька появилась с новым кавалером, который, непривычно сильно пожав мне руку, представился как Матвей – среднего роста, плотно сбитый, решительного вида, почти блондин, с веселым взглядом, лет тридцати. Он сразу стал шумно с кем-то спорить и потому особенно привлекал к себе внимание. Катька, по дружбе приехавшая на два часа раньше помогать мне готовить бутерброды, выглядела как никогда ослепительно. Она похудела, и теперь ее величественная фигура элегантно, даже провокационно вычерчивалась под плотно облегающим вечерним платьем.
– Как тебе новый-то мой? – спросила она, и вопрос этот, в принципе Катьке не свойственный, так как обычно чужое мнение ее мало интересовало, наводил на мысль о возможно серьезном ее отношении к «новому-то».
– Очень даже, – одобрила я не только из дипломатических соображений, а в основном из-за того, что, как мне показалось, присутствовало в нем что-то, какой-то сдержанный напор. – А сам-то он как? – по старой дружбе поинтересовалась я.
Катька не ответила, а только очень уверенно утвердительно кивнула, и рука ее, держащая стакан на уровне плотного живота, отделила однозначно обращенный вверх большой палец.
Я одобрительно подняла брови и посмотрела на Катькиного избранника как бы теперь в новой перспективе, заслуживающей дополнительного внимания.
– Злой он, – вдруг добавила Катька, когда я подумала, что обсуждение закончилось.
– Что это значит? – насторожилась я.
Катька посмотрела на меня с высоты своего роста и, как мне показалась, с высоты своего уникального знания и сказала чуть снисходительно:
– Это значит – кайф!
Я поразмышляла немного и решила не вдаваться в тонкости вопроса.
Подошел Миша, мы знали друг друга давно, с самого нашего американского младенчества. Он был один, в последнее время, когда я встречала его, он всегда был один. Когда-то он пытался ухаживать за Катькой, и, по-моему, у них даже что-то случилось разок-другой, точно не знаю, но в результате между ними выработались странные, почти патологически доверительные отношения.
Он был художником, и художником неплохим, сам он себя, как и все художники, считал гением, а иначе, как он говорил, «зачем вязаться с искусством». Порой его работы выставлялись в галереях, впрочем, не в самых известных, но в основном он занимался халтурой, делая иллюстрации к детским книжкам. Жил он скромно, или, если не бояться слов, просто бедно – видимо, иллюстрации хорошо не оплачивались, – но остроумно. Это была его фраза: «Я живу бедно, но остроумно», – говорил он.
Он действительно был остроумным, художник Миша, – не только знал прорву анекдотов, но и умел их смачно рассказывать, естественно присовокупляя к сюжету залетную матерщинку, но так интеллигентно, даже невинно, что это никого не смущало. Рассказывая всевозможные байки, смешно меняя голоса, он мог тут же с ходу выдумать новое продолжение, что присутствующей публикой ценилось особенно.
Катька как-то рассказала мне, что у него продолжительный роман с одной из его почитательниц, американкой вполне преклонного возраста, хорошо за пятьдесят, которую он, по понятным причинам, от всех скрывает. Катьке же на ее непонимающий вопрос он однажды сознался, что это полнейший «клевяк» и что он, закоренелый московский бабник, никогда в своей жизни ничего подобного себе представить не мог. Мы с Катькой долго обсуждали ситуацию, пытаясь разобраться, в чем же здесь «клевяк», но, так и не придумав, сошлись на мнении, что каждый, в конце концов, находит именно то, к чему стремится. А Катька еще и заподозрила, может быть, от подсознательной обиды, всяческие патологии в его характере и организме. Но все это был большой секрет, и поэтому я нарочно непосредственно спросила:
– Мишуля, ты чего один-то?
– Баб нет, – угрюмо ответил он. – Вы, девчонки, все разобраны.
– Ну, ладно, – перебила его Катька, – у тебя был шанс, когда мы, молоденькие тогда еще, скакали без присмотра.
– Чувствуешь, Марин, подруга твоя по-прежнему не может простить, что я этот шанс упустил, – подмигнул мне Миша. И я подумала, что он, наверное, прав, Катька и вправду ревнует его именно к этой пожилой любовнице. Ни к какой другой не ревновала бы, ни его, ни кого другого, а вот таинственную почти старуху простить не может. Как все же загадочен и до зависти притягателен отход от стандарта, и насколько томительным становится он там, где прикасается к нему секс, подумала я.
– Не, бабы-то здесь имеются, в принципе они здесь тоже пасутся, – отглотнув пива из банки и медленно развивая тему, продолжил Миша. – В принципе их запросто даже возможно наблюдать в среде максимально приближенной к естественной, в машинах, например, катящих мимо. Реже в общественных местах, типа метро, совсем редко-на улице, хотя там они тоже, бывает, встречаются. Но водятся они в своих заповедных кущах, или гущах, не знаю, как правильно, как бы автономно, без связи с реальным миром. Во всяком случае, с моим.
– Может, только с твоим? – зловредно спросила Катька.
Но Миша не отреагировал на выпад, он был расслаблен и почти меланхоличен.