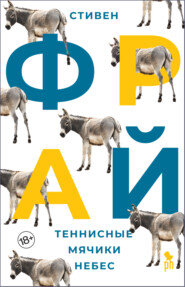скачать книгу бесплатно
Теннисные мячики небес
Стивен Фрай
Нед Маддстоун – баловень судьбы. Он красив, умен, богат и даже благороден. У него есть любящий отец и любимая девушка. Но у него есть и враги. И однажды злая школярская шутка переворачивает жизнь Неда, лишает его всего: свободы, любви, отца, состояния. Отныне вместо всего этого у него – безумие и яростное желание отомстить.
«Теннисные мячики небес» – это изощренная пародия и переложение на современный лад «Графа Монте-Кристо», смешная, энергичная и умная книга, достойная оригинала. Стивен Фрай вовсе не эксплуатирует знаменитый роман Дюма, но наполняет его новыми смыслами и нюансами, умудряясь добавить и увлекательности. Это своего рода «взрослая» версия «Монте-Кристо», настоящий подарок для всех, кто в детстве, затаив дыхание, перелистывал страницы книги Дюма.
Стивен Фрай – один из самых ярких людей нынешней Англии. Он незаурядный актер-интеллектуал (у нас известен по ролям Оскара Уайльда и Дживса из сериала по Вудхаузу), язвительный эссеист консервативной «Дейли телеграф», популярный шоумен и превосходный романист, снискавший как любовь читателей, так и добрые слова критиков-снобов.
Стивен Фрай
Теннисные мячики небес
Коллеге
Мы – теннисные мячики небес.
Они соединяют нас и лупят.
Как захотят.
Джон Уэбстер. «Герцогиня Малъфи», акт V, сцена 3
1
Заговор
13 се это началось давно, еще в прошлом веке, – веке, когда влюбленные писали друг дружке письма и посылали их, запечатывая в конверты. И временами, чтобы выразить свои чувства, они прибегали к разноцветным чернилам или опрыскивали почтовую бумагу духами.
Плау-лейн, 41
Хэмпстед
Лондон, СЗЗ
Понедельник 2 июня 1980
Милый Нед!
Прости мне этот запах. Надеюсь, ты вскроешь письмо в каком-нибудь укромном месте, когда будешь совсем один. Чтобы никто к тебе не приставал и не отвлекал. Духи называются «Rive Gauche»[1 - «Левый берег» (фр.) – Здесь и далее прим. перев.], так что я чувствую себя Симоной де Бовуар, а ты, надеюсь, почувствуешь себя Жаном Полем Сартром. Хотя нет, лучше не надо, потому что он, по-моему, ужасно с ней обходился. Я пишу это наверху, после ссоры с Питом и Хиллари. Ха-ха-ха! Пит и Хиллари, Пит и Хиллари, Пит и Хиллари. Тебе не нравится, когда я их так называю, ведь правда? Я так люблю тебя! Если бы ты увидел мой дневник, ты бы просто умер. Сегодня утром я исписала целых две страницы. Составила список всех твоих восхитительных, прекрасных качеств – когда-нибудь, когда мы будем вместе, я, возможно, позволю тебе заглянуть в него и ты умрешь еще раз.
Я записала, что ты старомоден.
Во-первых, при самой первой нашей встрече ты встал, когда я вошла в зал, – мило, конечно, но ведь дело было в «Хард-рок кафе», а я вышла из кухни, чтобы принять твой заказ.
Во-вторых, каждый раз, как я называю маму с папой Питером и Хиллари, ты краснеешь и поджимаешь губы.
В-третьих, когда ты в первый раз беседовал с Питом – ну ладно, будь по-твоему, – когда ты в первый раз разговаривал с мамой и папой, ты не мешал им разглагольствовать о частном образовании, частной медицине, о том, как все это ужасно и какое поганое у нас правительство, – и ни разу не сказал ни слова. Ну, то есть, о том, что твой папа тори и член парламента. Ты замечательно говорил о погоде и не очень понятно – о крикете. Но так и не проболтался.
Собственно, из-за этого мы сегодня и разругались. Твоего папу показывали в дневном выпуске «Уик-энд уорлд», ты, наверное, видел. (Да, кстати, я люблю тебя. Господи, как я тебя люблю.)
– Откуда они их выкапывают? – рявкнул Пит, тыча пальцем в экран. – Ну откуда?
– Выкапывают что? – холодно поинтересовалась я, приготовившись к сваре.
– Кого, – поправила меня Хиллари.
– Вот этих пережитков в твидовых пиджаках, – сказал Пит. – Ты только посмотри на старого пердуна. Какое он имеет право говорить о шахтерах? Да если ему кусок угля свалится в тарелку с коричневым виндзорским супом[2 - Суп из телятины и овощей.], он даже не поймет, что это такое.
– А помнишь молодого человека, который был у нас на прошлой неделе? – Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы, что спросила я это с ледяным спокойствием.
– Гарантии занятости, а! – завопил Пит прямо в экран. – Когда это тебе приходилось беспокоиться насчет гарантий занятости, ты, мистер Итон, мистер Оксфорд и мистер Гвардеец?
Затем он повернулся ко мне:
– Что? Какой молодой человек? Когда?
Если ему задаешь вопрос, он неизменно проделывает этот фокус – сначала скажет что-нибудь ни к селу ни к городу, а уж после ответит тебе одним (или несколькими) собственными. Он меня с ума сводит. (Как и ты, милый Нед. Только ты сводишь меня с ума, потому что я люблю тебя всей душой.) Если отца спросить: «Пит, в каком году была битва при Еастингсе?» – он ответит: «Опять они урезали пособие по безработице. В реальном исчислении – уже на пять процентов за последние два года. Пять процентов. Сволочи! Еастингс? А зачем тебе? С чего вдруг Еастингс? Битва при Еастингсе была не чем иным, как стычкой военщины с разбойниками-баронами. Единственная битва, о которой каждому следует знать, это битва между…» – и заведет свою обычную волынку. И ведь знает, что доводит меня до белого каления. Думаю, можбыть, и Хиллари – тоже. Как бы там ни было, я стояла на своем:
– Молодой человек, которого я к нам приводила. Его имя Нед. И ты отлично его помнишь. Мы познакомились в «Хард-рок» две недели назад.
– Слоан Рейнджер в крикетном джемпере, ты об этом, что ли?
– Никакой он не Слоан Рейнджер!
– А на мой взгляд, похож. Хиллс, как по-твоему, походил он на Слоана Рейнджера?
– Он определенно был очень вежлив, – сказала Хиллари.
– Вот именно. – И Пит повернулся к своему дурацкому телевизору, по которому как раз показывали твоего отца, выступающего перед йоркширскими шахтерами, что, должна признать, было действительно смешно. – Ты только взгляни! Старый фашист впервые в жизни оказался севернее Уотфорда[3 - Округ на северо-западной границе Лондона.], голову дам на отсечение. Если не считать тех случаев, когда он приезжал в Шотландию, чтобы подстрелить куропатку. Невероятно. Невероятно.
– Бог с ним, с Уотфордом, ты-то когда в последний раз забирался северней Хэмпстеда?[4 - Фешенебельный район на севере Лондона.] – спросила я. Вернее, крикнула. Что было, думаю, только справедливо, потому что он вывел меня из себя. И вообще, он бывает иногда таким ханжой.
Хиллари проиграла обычную пластинку «не-смей-так-разговаривать-с-отцом», после чего вернулась к своей статье. Она теперь ведет новую колонку, «Лишнее ребро», и очень легко выходит из себя.
– Ты, видимо, забыла, что докторскую степень я получил в Шеффилдском университете[5 - Шеффилд расположен в 257 км к северо-западу от Лондона.], – произнес Пит таким тоном, будто это обстоятельство позволяло претендовать на звание «Северянин десятилетия».
– Подумаешь! – фыркнула я. – Суть дела в том, что Нед приходится сыном как раз этому человеку.
И я торжествующе указала пальцем на экран. Увы, на экране в это время объявился ведущий.
Пит в благоговейном трепете повернулся ко мне.
– Этот юноша – сын Брайана Уолдена? – хрипло осведомился он. – Ты встречаешься с сыном Брайана Уолдена?
Оказывается, ведущий, Брайан Уолден, тоже состоит в парламенте, только от лейбористов. И в мозгу Пита мгновенно возникла картинка: я, а рядом со мной сын социалистического принца. Я просто видела, как Пит пытается быстренько просчитать шансы втереться в доверие к Брайану Уолдену (как тесть к свекру), заполучить на следующих выборах местечко в парламенте и триумфально прошествовать от унылой службы в Управлении народного образования Центрального Лондона к блеску и роскоши палаты общин и национальной славе. Питер Фендеман, смутьян-диссидент и герой рабочего класса, – я видела все эти фантазии в его алчных глазах. Отвратительно.
– Да не этого! – сказала я. – Вон того\
На экране опять появился твой отец, на этот раз он с бумагами под мышкой подходил к дверям Дома десять[6 - Даунинг-стрит, 10, официальная лондонская резиденция премьер-министра.].
Я люблю тебя, Нед. Люблю сильнее, чем приливы любят Луну. Сильнее, чем Микки любит Минни[7 - Персонажи диснеевского мультфильма «Приключения Микки-Мауса».] и Винни-Пух любит мед. Люблю твои большие темные глаза, твою милую круглую попку. Люблю твои спутанные волосы и красные-красные губы. Они правда такие красные, спорим, ты этого не знал. Красные губы, о которых столько пишут поэты, встречаются совсем у немногих. А твои – наикраснейшие из красных, они краснее всех красных губ, о каких я когда-либо читала, и я хочу, чтобы они прямо сейчас блуждали по всему моему телу, – но все равно, как бы ни были твои губы красны, глаза велики, а попка кругла, все равно я люблю не их, а тебя. Когда я увидела тебя стоящим у шестнадцатого столика и улыбающимся мне, то подумала, что у тебя вообще нет тела. Я вышла из кухни в дурном настроении и увидела перед собой эту сияющую душу. Этого Неда. Этого тебя. Нагую душу, улыбавшуюся мне, точно солнце, – и я поняла, что умру, если не смогу провести с тобой остаток моих дней.
И все же как мне хотелось сегодня, чтобы отец твой был лидером профсоюза, учителем средней школы, редактором «Морнинг стар»[8 - Газета английских коммунистов.], хоть самим Брайаном Уолденом – кем угодно, только бы не Чарльзом Маддстоуном, героем войны, гвардейским бригадиром в отставке, бывшим колониальным администратором. А сильнее всего мне хотелось, чтобы он был кем угодно, но не членом кабинета министров в правительстве консерваторов.
Но ведь это же неправильно, так? Тогда и ты был бы не ты, правда?
Когда до Пита и Хиллари дошло, они принялись перебегать глазами с меня на экран и обратно. Хиллари оглядела даже кресло, в котором ты сидел в тот день. Просто сверлила его взглядом, словно желала продезинфицировать, а после сжечь.
– Ах, Порция, – сказала она тоном, который принято называть «трагическим».
Пит, разумеется, сначала стал красным, как Ленин, но потом проглотил гнев заодно с разочарованием и начал Разговор. Торжественный. Он понимает мой подростковый бунт против всех тех принципов, в уважении к которым и в вере в которые меня воспитывали. Нет, более того, он этот бунт уважает.
– Знаешь ли ты, Порш, что я по-своему горжусь тобой? Горжусь твоим боевым задором. Ты восстаешь против власти, а разве не этому я тебя всегда и учил?
– Что? – завизжала я. (Нужно быть честной. Другого слова не подберешь. Это был визг, и ничто иное.)
Он развел руки в стороны и пожал плечами – с самодовольством, которое будет изводить меня до самого дня моей смерти.
– Хорошо. У тебя были свидания с олухом года, принадлежащим к высшему свету, тем самым ты привлекла к себе внимание папочки. Пит готов выслушать тебя. Давай поговорим, идет? Я хочу сказать…
Я спокойно встала, покинула комнату и поднялась к себе, чтобы все обдумать.
То есть… мне следовало бы так поступить, но куда там!
На самом деле я просто-напросто заорала:
– Иди ты на хрен, Пит! Ненавижу! Ты просто жалок! И знаешь, что еще? Ты сноб. Отвратительный, презренный сноб!
После чего я вылетела из комнаты, жахнула дверью и поскакала наверх, чтобы выплакаться. Владыка Бессмертных, говоря словами Эсхила, завершил свои игры с Порцией.
Уф! И еще раз уф.
Во всяком случае, теперь они знают. Ты уже сказал своим? Наверное, они тоже полезли на стену. Их возлюбленного сына заманила в свои сети дочь еврейского интеллектуала левых убеждений. Если только преподавателя истории, получающего полставки в Политехническом институте Северо-Восточного Лондона, можно назвать интеллектуалом, в чем я сильно сомневаюсь.
Но ведь любви без препятствий не бывает, правда? Я о том, что, если бы папа Джульетты бросился Ромео на шею и сказал: «Я не теряю дочь, я приобретаю сына», а мама Ромео разулыбалась от счастья: «Джульетта, душечка, добро пожаловать в семью Монтекки», пьеска получилась бы куцая.
Так или иначе, через пару часов после этой «мучительной сцены» Пит постучал в мою дверь с чашкой чая. Точность, Порция, точность. Не дверь была с чашкой чая, а Пит, – впрочем, ты меня понял. Я решила, что меня ожидают новые напасти, однако на деле… Хотя нет, на деле так оно и вышло. Ему только что позвонили из Америки. У брата Пита, моего дяди Лео, случился в Нью-Йорке сердечный приступ, и, когда приехала «скорая», он был уже мертв. Как ужасно! Жена дяди Лео, Роза, умерла в январе от рака яичников, а теперь вот и он. Ему было сорок восемь. В сорок восемь лет умереть от сердечного приступа! Так что мой бедный двоюродный брат, Гордон, приезжает в Англию, чтобы пожить с нами. Это именно он вызвал «скорую» – ну и все такое. Представляешь, видеть, как прямо на твоих глазах умирает отец. А он к тому же и единственный их ребенок. Наверное, он сейчас в ужасном состоянии, бедняжка. Надеюсь, ему у нас понравится. Насколько я знаю, его воспитали в строгой вере, я и вообразить не могу, какое впечатление произведет на него наша семейная жизнь. Наши представления о кошерной пище ограничиваются булочкой с беконом. Я с Гордоном никогда не встречалась. И всегда воображала, что у него черная борода, – чушь, конечно, поскольку он примерно наших с тобой лет. Семнадцать-восемнадцать, что-то в этом роде.
Итоги дня таковы: мир в семействе Фендеманов нарушен, а у меня появится на следующей неделе брат, будет с кем поболтать. И я смогу разговаривать о тебе.
А это, о мой Недди, куда больше того, чего я дождалась от тебя. «Выиграл матч. По-моему, играл довольно прилично. Много читаю. Очень часто думаю о тебе». Цитирую самые интересные места.
Я знаю, ты занят экзаменами, но ведь и я тоже. Не огорчайся. Любое твое письмо приводит меня в трепет. Я смотрю на буквы, изучаю твой почерк, представляю, как рука твоя движется по бумаге, и этого довольно, чтобы я начала корчиться, будто истомленный любовью угорь. Я воображаю, как волосы, пока ты пишешь, спадают тебе на лоб, и это заставляет меня извиваться и пену пускать изо рта, подобно… подобно… ладно, об этом мы еще поговорим. Я думаю о твоих ногах под столом, и во мне начинают играть и искриться миллионы триллионов клеток. От того, как ты перечеркиваешь «Ъ>, у меня занимается дух. Я прижимаю конверт к губам, представляю, как ты лизнул его, и голова моя начинает кружиться. Я свихнувшаяся, спятившая, скучная, сопливая и слезливая барышня, и я люблю тебя без меры.
И я хочу, хочу, хочу, чтобы на следующий триместр ты не возвращался в свою школу. Брось ее и будь свободен, как все мы. Тебе же не обязательно поступать непременно в Оксфорд, правда? Я бы ни за что не стала поступать в университет, который требует, чтобы я торчала в нем весь зимний триместр после того, как все основные экзамены сданы, а все друзья разъехались, – торчала из-за какого-то дополнительного вступительного экзамена. Сколько можно надувать щеки? Почему не вести себя, как нормальный университет? Поедем лучше со мной в Бристоль. Время мы там проведем куда веселее.
Впрочем, что это я к тебе пристаю? Ты должен делать то, что хочешь делать.
Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю.
Только что пришло в голову. А вдруг преподаватель истории искусств в ту субботу не повел бы ваш класс в Королевскую академию? Вдруг он взамен потащил бы вас в Тейт или в Национальную галерею? И ты не попал бы на Пиккадилли, не завернул бы позавтракать в «Хард-рок кафе», и я не стала бы самой везучей, самой счастливой, самой обезумевшей от любви девушкой на свете.
В мире столько… э-э… (Порция заглядывает в антологию Томаса Ёарди, которую она, предположительно, изучает.) В мире столько непредвиденного.
Ну вот.
Целую воздух вокруг себя.
Люблю и люблю и люблю и люблю и люблю.
Твоя Порция (поцелуй).
Только один, потому что не хватило бы и квинтильона.
7 июня 1980
Моя милая Порция!
Спасибо за чудесное письмо. После твоей (более чем справедливой) критики ужасного слога моих писем написание этого обещает стать делом более чем мудреным. Из тебя слова просто-напросто бьют, как струя из кайзера (так это, кажется, пишется?), а я для подобного рода штук недостаточно пылок. Да и почерк твой более чем совершенен (разумеется, как и все в тебе), мои же каракули более чем неразборчивы. Я думал о том, чтобы ответить на твое особое добавление (потрясающее, кстати сказать), опрыскав конверт одеколоном или лосьоном «после бритья», но у меня нет ни того ни другого. Льняное масло, которым я натираю мою крикетную клюшку, тебе, наверное, соблазнительным не покажется? Думаю, что нет.
Мне так жаль, что ты поссорилась с родителями. Быть может, тебе стоит объяснить Питеру (видишь, я смог это написать!), что я более чем беден? Мы никогда не проводим отпуск за границей, у отца только и хватило средств, чтобы послать меня сюда, и – хоть это, конечно, не произведет на человека левых или еще каких убеждений особого впечатления, – но у отца все время уходит на поездки в провинцию, к своим избирателям, да на попытки не дать развалиться нашему дому. Будь у меня братья или сестры, мне, может быть (кстати, где, боже милостивый, подцепила ты свое «можбыть»?), пришлось бы донашивать их одежду, как теперь я донашиваю его. Я единственный в школе ученик, который даже в те дни, когда нам разрешено не облачаться в форму, разгуливает в кавалерийской сарже и старых наездницких жакетах. А то и в допотопном отцовском канотье, почти оранжевом от старости и с обтрепанными полями. Когда мама была еще жива, она, вот честное слово, вязала для меня носки, совсем как старая викторианская дама. Так что если отец у меня и фашист (хотя я, честно говоря, в этом не уверен), то фашист более чем бедный. Сообщаю также, что я рассказал ему о моем знакомстве с одной лондонской девушкой, и он остался этим очень доволен. И даже не полез на стену, когда я поведал ему, что по субботам ты после школы подрабатываешь официанткой в ресторане с подачей гамбургеров. Он даже сказал, что ты. похоже, человек, не лишенный инициативы. Что до еврейства, оно его очень заинтересовало, отец спросил, не бежала ли твоя семья от Гитлера. Он имел какое-то отношение к суду над военными преступниками в Нюрнбурге (или «берге»?) и… нет, я вовсе не хочу сказать, что мой отец лучше твоего, на самом деле твои родители показались мне очень милыми, просто тебе нет нужды беспокоиться о том, что он тебя не одобрит или еще что. Он ждет не дождется знакомства с тобой, а я жду не дождусь возможности познакомить тебя с ним. Люди очень часто принимают отца за моего деда, потому что он старше большинства родителей – если ты понимаешь, что я хочу сказать. По-моему, он очень хороший, но я, конечно, более чем пристрастен. Как бы там ни было, у меня никого, кроме него, нет. Мама умерла родами. Я тебе не говорил? Прости. Я – первый ребенок, а ей уже было под пятьдесят.
Как ужасно то, что случилось с твоим американским дядей! Мне его очень жалко. Надеюсь, Гордон окажется приятным малым. Замечательно, что у тебя наконец появится брат. Все мои кузены – типы просто жуткие.
Просто жду не дождусь конца триместра. Слава богу, последний экзамен уже позади. Я так усердно готовился к нему, что у меня чуть ли не кровь носом шла, и все же, мне кажется, я мог бы сдать получше.
Скучные школьные новости – номер один: меня назначили главным старостой.
Трам-парарам!
У нас это называется «старшина школы». Всего на один триместр, но мне и без того хватает забот с подготовкой к Оксфорду, так что это серьезно. (Насчет поступления чуть ниже.) Как бы там ни было, когда доживаешь до моих лет, власть над другими людьми утрачивает всю свою привлекательность. И оборачивается тяжким трудом плюс бесконечные совещания с директором школы и классными «мониторами» – староста класса называется у нас «монитором», только не спрашивай меня почему.
Номер два: в августе парусный клуб устраивает вояж к берегам Шотландии. Учитель, который его возглавляет, пригласил и меня. На две недели – те самые, на которые ты с родителями уедешь в Италию, то есть те самые, когда мы все равно будем далеко друг от друга. Все остальное лето я просижу в квартире отца на Виктории, и ты, надеюсь, станешь проводить со мной столько времени, сколько сможешь! Или ты собираешься снова устроиться на работу в «Хард-рок»?
Так вот. Оксфорд. Мне тоже несносна мысль, что придется вернуться туда в сентябре, когда ты еще будешь свободна как птица. Я без разговоров бросил бы все и поступил с тобой в Бристоль. Дело не в том, что меня так уж заклинило на Оксфорде, просто я знаю, что, если не буду учиться там, это разобьет сердце отца. Его прапрадед учился в Сент-Марке, а после него и каждый из Маддстоунов. Тут даже один из двориков назван нашим именем. Ты можешь подумать, что из-за этого мне легче поступить, но на деле все наоборот. На деле я должен показать себя на вступительном экзамене лучше, чем практически кто бы то ни было, – доказать, что меня принимают в университет за собственные мои заслуги, а не за фамилию и семейные связи. Для отца это значит так много. Надеюсь, написанное мной не выглядит хронически патетичным. Я – единственный его сын и просто-напросто знаю, как он будет счастлив навещать меня здесь, обходить со мной колледжи, показывать места, в которых он любил бывать, и так далее.
Хорошо бы и ты ко мне приехала. Может, протащить тебя в следующем триместре в школу, выдав за новичка? Все, что от тебя потребуется, – это говорить пописклявее да иметь смазливый вид, а у тебя и то и другое получается так мило. Хотя нет, не мило, – разумеется, ты прекрасна. Самое прекрасное существо, какое я когда-либо видел и когда-либо увижу. (И пищишь ты тоже замечательно.)
Я люблю твои письма. И до сих пор не могу поверить, что все это правда. Что же с нами происходит, на самом-то деле? У многих наших ребят тоже есть подружки, но я уверен – они к ним относятся совсем по-другому. Показывают направо-налево их письма, треплются, доказывая, какие они молодцы. Должно быть, отсюда следует, что для них все это не более чем шутка. А у нас с тобой дело нешуточное, верно?
Ты писала о странной причуде Судьбы, отправившей компанию школьников в Королевскую академию, о том, что, если б не это, мы, скорее всего, не попали бы в «Хард-рок кафе». Мысль более чем жуткая. А с другой стороны, когда ты подошла к столу, за которым нас сидело, по-моему, семеро, почему ты взглянула на меня дважды? Не считая того обстоятельства, что я вскочил, будто слабоумный, на ноги. Очень неприятно тебя разочаровывать, но вскочил я вовсе не из вежливости. А потому, что увидел тебя. Своего рода инстинкт. Я могу показаться тебе сумасшедшим, но я словно бы знал тебя всю жизнь.
Больше того, когда я думаю об этом, я готов поклясться, что знал – сейчас ты выйдешь из той вращающейся двери. Весь день я чувствовал себя как-то странно. Чувствовал себя другим – ты понимаешь, о чем я? – а ко времени, когда мы добрались до ресторана, пропотев два часа в галерее и отшагав полмили по Пиккадилли, я просто знал: со мной вот-вот что-то произойдет. И когда ты пошла в нашу сторону (ты очень смешно похлопала себя по переднику и проверила, торчит ли за ухом карандаш, – я помню каждую подробность), меня просто подбросило на ноги. Я почти уж воскликнул: «Наконец-то!» – но тут ты посмотрела мне в глаза, мы улыбнулись друг другу – и все.
Но ведь ты, наверное, заметила и других наших ребят? Большинство из них, уж точно, выше меня и красивее. Тот же Эшли Барсон-Гарленд – он в двадцать раз интереснее меня и в двадцать раз умнее.
Это напомнило мне… Я сделал сегодня утром, в биологическом кабинете, кое-что более чем ужасное. Это довольно трудно описать, и чувствую я себя из-за этого кошмарно. Тебе тут тревожиться не о чем, но получилось все странно. Я прочитал дневник Барсон-Гарленда. Вернее, часть дневника. Никогда ничего такого не делал, просто не понимаю, что на меня нашло. Я тебе все расскажу при встрече.
При встрече.