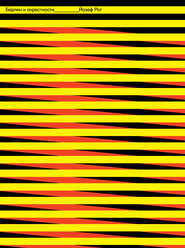скачать книгу бесплатно
Берлин и его окрестности (сборник)
Йозеф Рот
Михаил Львович Рудницкий
В сборник очерков и статей австрийского писателя и журналиста, составленный известным переводчиком-германистом М.Л. Рудницким, вошли тексты, написанные Йозефом Ротом для берлинских газет в 1920–1930-е годы. Во времена Веймарской республики Берлин оказался местом, где рождался новый урбанистический ландшафт послевоенной Европы. С одной стороны, город активно перестраивался и расширялся, с другой – война, уличная политика и экономическая стагнация как бы перестраивали изнутри его жителей и невольных гостей-иммигрантов. Динамическая картина этого бурлящего мегаполиса, набросанная в газетных колонках Йозефа Рота, и сегодня читается как живой репортаж о жизни города, который опять стал местом сопряжения различных культур. Писатель создает галерею городских типов и уличных сценок, чем-то напоминающих булгаковскую Москву, где место фантастики занимают наблюдательность и уникальный берлинский стиль. Издание сопровождается архивными фотографиями.
Йозеф Рот
Берлин и окрестности
1
Перевод данной книги был поддержан грантом Гёте-Института (Немецкого культурного центра им. Гёте), финансируемого Министерством иностранных дел Германии
Издательство благодарит берлинскую галерею Volker Diehl за любезно предоставленные иллюстрации
Оформление – ABCdesign
© М. Рудницкий, перевод с немецкого, составление, 2013
© Galerie Volker Diehl, Berlin, иллюстрации, 2013
© ООО «Ад Маргинем Пресс»
От составителя[1 - Составитель благодарит Федеральное министерство образования, искусства и культуры Австрийской республики за предоставленную возможность пребывания в Австрии в процессе работы над данным проектом.]
Взяв в руки эту книгу, иной читатель, знакомый с творчеством Йозефа Рота, возможно, не понаслышке[2 - В русском переводе опубликованы следующие романы и повести Йозефа Рота: «Отель Савой», (1924, рус. пер. 1925), «Бунт» (1924, рус. пер. 1925), «Циппер и его отец» (1927, в рус. пер. «Циппер и сын», 1929), «Иов» (1930, рус. пер. Ю.Архипова, 1995), «Марш Радецкого» (1932, рус. пер. 1939, новый перевод Н.Ман – 1975), «Сказка 1002-й ночи» (1939, рус. пер. Г.Кагана, 2001), «Легенда о святом пропойце» (1939, рус. пер. С.Шлапоберской, 1996).], удивится: «Смотри-ка, этот великий романист, оказывается, еще и в газеты пописывал!» Аналогичным образом, хотя и в противоположном смысле, наверняка удивлялись и иные из современников Рота, беря в руки его очередной, только что вышедший роман: «Смотри-ка, этот знаменитый журналист еще и романы успевает писать!» Ибо тогда, при жизни, журналистская слава Рота намного превосходила его популярность писателя, чему, пожалуй, удивляться как раз не стоит: в ту эпоху, еще до Всемирной паутины, многомиллионная армия читателей газет на порядок превосходила многотысячную братию книгочеев. Пожалуй, именно тогда, в 1920-х годах, существенно изменилась и сама роль газет в общественной жизни: сугубо информационная функция все больше отходила к новому, более современному и оперативному медийному ресурсу, к радио, прессе же пришлось искать себе новое амплуа – амплуа вдумчивого собеседника, толкующего для читателя и вместе с читателем смысл того, что со временем даже и называть стали не событием, а «информационным поводом». Неспроста именно в эту пору пришли в журналистику многие знаменитые литературные имена ХХ столетия – чтобы не злоупотреблять перечислением, назову Герберта Уэллса и Эрнеста Хемингуэя, Рафаэля Альберти, Мигеля Эрнандеса, Ромена Роллана и Анри Барбюса.
В немецкоязычной прессе в то время подвизаются едва ли не все сколько-нибудь заметные литературные фигуры, от Генриха и Томаса Манна до Фейхтвангера, от Стефана Цвейга до Ремарка, не говоря уж о столь ангажированных, по самой природе таланта тяготеющих к публицистике авторов, как Бертольт Брехт, Леонгард Франк, Арнольд Цвейг. Но есть и выдающиеся мастера собственно газетного жанра – фельетона, очерка, эссе, именно в этом, журналистском качестве оставившие свой след в немецкоязычной литературе – это непревзойденный венский острослов Карл Краус, пражанин Эгон Эрвин Киш по прозвищу Неистовый репортер, язвительный берлинец Курт Тухольский, с 1924 года проживающий в Париже и мечущий оттуда стрелы своих сатирических инвектив… Это безусловные звезды тогдашней журналистики, чьих статей читатели ждут из номера в номер, чьи имена вместе с анонсом злободневных сенсаций зазывно выкрикивают мальчишки-газетчики. И среди них отнюдь не в последнюю очередь звучало имя Йозефа Рота (1894–1939), одного из величайших журналистов своего времени, успевшего между делом написать еще и два десятка романов и повестей, истинное значение которых в немецкоязычной словесности будет осознано лишь после смерти автора.
Сейчас, когда творческое наследие Йозефа Рота торжественно убрано в шесть замечательно изданных томов полного собрания сочинений[3 - Joseph Roth Werke in 6 B?nden, hrsg. von Fritz Hackert und Klaus Westermann, K?ln, Kiepenheuer & Witsch, 1989–1994.], каждый из которых содержит примерно по тысяче страниц убористо набранных текстов – текстов, разделившихся ровно пополам, по три тома на журналистику и беллетристику, но связанных между собой великим множеством незримых нитей, увлекательные хитросплетения которых еще предстоит изучать исследователям, – в первую очередь волей-неволей отдаешь дань изумленного восхищения столь неистощимой творческой продуктивности. Лозунг «ни дня без строчки», которым иные литераторы, как известно, чуть ли не силой гнали себя к письменному столу, был для Йозефа Рота попросту нормой жизни. Второе, чему не перестаешь изумляться, – высочайшее литературное качество этих текстов, написанных, казалось бы, всего лишь на злобу дня, но и поныне не утративших своего блеска и захватывающей читателя внутренней энергии. В них всегда ощущается стремление и умение изобретательной, сметливой и пытливой, а зачастую и просто озорной мысли преодолеть и как бы перехитрить косность и однообразие житейской прозы, разглядеть, а то и подглядеть неожиданное и новое в примелькавшемся и заурядном, готовность с радостной детской непосредственностью отозваться на всякую перемену, подмеченную в однообразном течении повседневности.
Подобная неувядающая свежесть восприятия – это, конечно, в первую очередь природный дар, но еще и сознательно выработанный, натренированный навык наблюдательности. Думаю, заметную роль тут сыграло и восторженное любопытство провинциала, человека, пробившегося в столичную жизнь из захолустья и во многом «сделавшего себя» своими силами. Матерый газетный волк, каким запомнили Йозефа Рота европейские столицы уже с середины 1920-х, корифей журналистики, вхожий во все элитные дома и дорогие рестораны, завсегдатай модных кафе, светских вечеринок, шумных театральных премьер и спортивных зрелищ, постоялец эксклюзивных отелей – словом, человек, в чьей судьбе, казалось бы, воочию воплотилась головокружительная траектория успеха, он, судя по всему, никогда не забывал об исходной точке своего взлета: о богом забытом местечковом галицийском городишке Броды на самой окраине могучей Австро-Венгерской империи, в сотне верст от Лемберга (нынешнего Львова) и каких-нибудь десяти от границы другой, уж и вовсе необъятной, Российской империи. Там, на этой периферии двух царств, неоднократно с любовью и ненавистью описанной в его романах, в этой глухомани, в окружении степей и болот, где зимой все терялось в заснеженных далях, а осенью и весной ночами в черноземной жиже проселков подрагивали огромные звезды, он рос безотцовщиной у любящей полунищей матери, на скудном попечении многочисленной еврейской родни, худо-бедно, но все же обеспечившей мальчику обучение в местной классической гимназии, а потом и снарядившей его во львовский университет. Проучившись там год, он сумел перебраться в столицу, в фешенебельно-роскошную Вену, откуда после университета прямиком угодил на фронт, окунувшись после радостей столичной жизни во все невзгоды окопного бытия. С фронта посылал в газеты свои первые заметки, а по окончании войны среди голода, разрухи и унижения распадающейся империи вынужден был добывать себе хлеб насущный журналистской поденщиной. В таких условиях возможность выжить была одна – добиться успеха.
По счастью, он очень рано открыл для себя главный секрет занимательности: важно не что ты описываешь, а как. За столетия с лишним до него немецкий романтик Новалис, раздумывая об идеальном романе, мечтал об умении повествователя «делать вещи странными». Наверняка знать не зная о теориях русского ОПОЯЗа, введших в эстетический обиход понятие «остранение», и задолго до Брехта, у которого сходная идея «запатентована» термином verfremdungseffekt[4 - Традиционно и не вполне точно переводится на русский как «эффект отчуждения», правильнее было бы «эффект очуждения».], журналист и публицист Рот, отнюдь не склонный к теоретическим умствованиям, начал интуитивно пользоваться этим приемом сплошь и рядом. Вчерашний провинциал, он сберег в себе умение удивляться бурным перипетиям столичных нововведений, уморительно выставляя себя на их фоне наивным простаком. С тем же эффектом он, обладавший необычайно острым чутьем на все новое, подвергал ироническому рассмотрению новомодные веяния века, притворно противопоставляя их воззрениям, традициям и устоям века минувшего, прикидываясь то умеренным ретроградом, то переполошившимся обывателем, то комически недоумевающим гуманистом. В его журналистской прозе неизменно присутствует некое дополнительное измерение, своеобразный «допуск» фантазии и юмора, сообщающий его наблюдениям остроумие, неожиданность и глубину. В этом отношении для него несомненным и осознанным ориентиром всегда оставался Генрих Гейне, поэзию которого он всю жизнь любил, а на публицистике которого всю жизнь учился.
С распадом империи Габсбургов Вена на глазах превращалась в провинцию, поэтому в 1920 году Йозеф Рот перебирается в Берлин, с которым связан расцвет его журналистского творчества. Он пишет для разных газет, не только местных, в Вене и Праге всем тоже любопытно знать, что творится в Берлине, и удовлетворять этот интерес Рот умеет вполне. Поначалу он сотрудничает с газетами левой, преимущественно социал-демократической ориентации, хотя при случае не упускает возможности подработать и в коммунистической прессе, но довольно скоро его политическая ангажированность сменяется достаточно умеренным либерализмом, непримиримым лишь ко все более очевидным и грозным проявлениям фашизма. Растущим нацистским тенденциям, воинствующему антисемитизму он демонстративно противопоставляет сосредоточенное внимание к судьбам еврейского народа, посвящая этой теме целый ряд публикаций, а в конечном счете и книгу[5 - См.: Йозеф Рот. Дороги еврейских скитаний / Пер. с нем. Анны Шибаровой. – М.: Текст, Книжники, 2011.]. С осени 1924 года он становится штатным берлинским корреспондентом респектабельной «Франкфуртер Цайтунг», по заданию редакции командируется в европейские страны – во Францию, в Албанию, неоднократно в Польшу, включая его малую родину Галицию, много раз в Австрию. С особым вниманием была встречена читателями его поездка в Советский Союз, где он провел почти всю осень 1926 года, отчитавшись о поездке двумя десятками публикаций, из которых вполне можно было бы сложить книгу, если бы свойственная Роту поистине бесценная и остроумная наблюдательность зачастую не сменялась в этих очерках добросовестными, но скучноватыми, а порой и наивными (особенно когда их читаешь сейчас) рассуждениями о том, как будет построена жизнь в стране побеждающего социализма. Зато публикация его убийственно язвительных памфлетов о поездке в фашистскую Италию осенью 1928 года чуть не вызвала международный скандал и была приостановлена то ли цензурой, то перепуганной редакцией – как бы там ни было, корреспондента срочно отозвали обратно в Германию.
Однако в фокусе его журналистского внимания неизменно и заслуженно остается Берлин – город, в котором в то время в турбулентной, противоречивой кинетической взвеси выказывали себя, пожалуй, все характерные тенденции политической и культурной жизни побежденной страны, с трудом поднимавшейся на ноги из руин послевоенной разрухи. Экономические потрясения, нашествие беженцев и эмигрантов едва ли не со всей Восточной Европы, финансовый кризис, гиперинфляция, подавленный фашистский путч, политический терроризм, жертвой которого становились ведущие политические деятели страны, год от года слабеющая демократия, почти неприкрытый паралич государственной власти, рост националистических и откровенно фашистских настроений, уличные бои штурмовиков с коммунистами, грозное предчувствие надвигающейся диктатуры – все это так или иначе запечатлено в публицистике Йозефа Рота. Но вместе с тем Берлин 1920-х годов – это равнозначная Парижу вторая культурная столица Европы, средоточие едва ли не всех авангардных исканий в искусстве того времени, арена бурных градостроительных преобразований, центр невероятно разнообразной художественной и культурной активности. Эта сторона берлинской жизни интересует Рота, пожалуй, даже сильнее, нежели перипетии политической борьбы, но с наибольшим азартом – и тут, несомненно, им движет уже не журналистская, а писательская страсть – он создает зарисовки берлинского быта, зорко улавливая в текучке повседневности приметы и черточки перемен, которые в конечном счете и определяют атмосферу времени. Благодаря такому тематическому разнообразию его очерки в совокупности создают как бы панорамный портрет берлинской жизни 1920-х годов, который мы – при всей очевидной неполноте и возможной субъективности отбора – и попытались воспроизвести в этой книге.
Рот покинул Берлин в январе 1933 года, сразу после прихода Гитлера к власти. Не питая ни малейших иллюзий относительно перспектив политического будущего Германии, он эмигрирует во Францию, где его журналистская активность постепенно, но с неизбежностью пойдет на убыль, хочешь не хочешь все больше уступая место писательству. Он, даже в пору своего относительного процветания никогда не имевший того, что принято именовать «домашним очагом» – его семейная жизнь, смолоду отмеченная всеми сомнительными прелестями богемного существования, и в берлинский период протекала то на съемных квартирах, то в гостиницах, к тому же все больше омрачалась душевной болезнью жены, – во Франции, где жена вскоре очутится в психиатрической лечебнице (в 1940 году оккупировавшие страну гитлеровцы в соответствии со своей доктриной «милосердной эвтаназии» ее попросту умертвят), и вовсе будет жить холостяком, порой, как и в молодости, на грани нищеты, и скитальчество, как и пристрастие к алкоголю, станет нормой. В мае 1939 года в Париже Йозеф Рот умрет от сердечного приступа – уже не знаменитым журналистом и еще не прославленным писателем.
М.Рудницкий
Часть 1
Берлин – приметы времени и места
Небоскреб
Вот уже несколько недель в берлинской ратуше экспонируется чрезвычайно интересная выставка проектов высотного строительства. Поговаривают, что теперь и возведение небоскреба должно быть ускорено. Это будет первый в Германии небоскреб.
Вообще-то само слово «небоскреб» – не техническое, а скорее простонародное обозначение гигантских высотных зданий, которые мы привыкли видеть на фотографиях нью-йоркских улиц. Наименование весьма романтичное и образное. Оно подразумевает здание, крыша которого как бы «скребет» небо. В самом слове есть что-то революционное – наподобие грандиозной мечты о Вавилонской башне.
Небоскреб – это воплотившийся в материале протест против тщеты недосягаемости; против таинства высоты, против потусторонности небесных пределов.
«Небоскреб» – этим словом обозначается одна из тех вершин технического развития, на которой преодолевается рационализм «конструкции» и уже намечено возвращение к романтике природного мира. Небо, это далекая, вечная загадка мироздания, таившая в себе божью милость и гнев, небо, на которое первобытный человек взирал с благоговением и страхом, обживается и даже становится, так сказать, уютным. Там, на небе, мы устроимся со всеми удобствами. Мы поведаем небесам о смехотворных несуразицах и серьезных делах земной жизни. Они услышат перестук пишущих машинок и перезвон телефонных аппаратов, утробное бульканье в батареях отопления и капанье подтекающих водопроводных кранов.
Это будет своего рода возращением сложного, рефлектирующего современного человека к первобытным истокам природных стихий. Событие знаменательное, но, сдается мне, мы готовы отнестись к нему без должного внимания. Возведение первого небоскреба – это один из судьбоносных, поворотных моментов истории.
Всякий раз, когда я вижу фотографии Нью-Йорка, меня переполняет чувство глубокой благодарности всемогуществу технических возможностей человека. На следующей стадии своего развития наша цивилизация получит возможность снова приблизиться к древним категориям культуры.
Когда был изобретен первый паровоз, поэты принялись сетовать на грядущее изничтожение природы; человеческой фантазии рисовались картины страшного будущего – целые континенты без лесов и лугов, иссякшие реки, засохшие растения, погибшие от удушья бабочки. Никому и невдомек было, что всякое развитие проходит таинственный круговорот, в котором смыкаются и совпадают концы и начала.
Ибо изобретение аэроплана означало не объявление войны всякой летучей твари, а, напротив, братание человека с орлом. Первый рудокоп принес в земные недра не опустошение, он бережно возвращался в лоно матушки-Земли. То, что выглядит войной против природных стихий, на самом деле есть союз человека с силами природы. Человек и природа снова едины. Свобода обитает в небоскребах так же, как на горных вершинах.
Наконец-то сбываются долгожданные земные чаяния: преодолеть недостаток пространства за счет покорения высоты. Перед нами явленное в материи использование всех трех земных измерений – подъем ввысь, зримый внешне и обжитый, наполненный внутренне.
Невозможно предположить, что близость к небу никак не повлияет на человека. Взгляд из окна, охватывающий безграничность горизонтов по всей округе, не может не отозваться в душе и сердце. Легкие всей грудью вдохнут воздух небес. Облака, прежде ласкавшие лишь нимбы олимпийских небожителей, теперь охладят чело простого смертного.
Я уже вижу его, этот небоскреб: выделенное в городском пространстве, отдельно стоящее на площади, устремленное ввысь, стройное, парящее здание благородных и изящных контуров, перекличкой серого и белого цветов выделяющееся на голубизне неба, своей мощной и надежной осанкой соперничающее с незыблемостью горных кряжей.
Десятки тысяч людей ежедневно устремляются к его входам и выходам: миниатюрные конторские барышни с черными сумочками, выпорхнувшие из узкогрудых дворов города и бедноты его северных предместий, упругой, летящей походкой спешат к его дверям, заполняют могучие лифты и щебечущей стайкой ласточек взмывают в небо.
Неизвестный фотограф. Панорамный вид исторической части города, вид на Музейный остров на Шпрее с запада. Около 1920 г.
Но здесь же и уверенные, энергичные мужчины, во взгляде – целеустремленность, в каждом движении – предприимчивость и напор, рокот мотора и шорох шин подъезжающих авто, командный тон приказов, деловитость окриков, равномерный такт механического многоголосия, никчемный по отдельности и осмысленный только в слитной подчиненности единой цели.
А где-то на самом верху – Господь Бог, потревоженный в своем вечном покое и волей-неволей вынужденный принять участие в нашей скромной земной юдоли.
Но увы и ах! Уже довелось прочесть, что в первом берлинском небоскребе планируется разместить грандиозный развлекательный центр. С кинотеатрами, танц-верандами, барами, рюмочными-закусочными, негритянскими капеллами, варьете и джаз-бандами.
Ибо натура человеческая не отрекается от своих слабостей даже там, где, казалось бы, вот-вот готова их преодолеть.
И даже если нам когда-нибудь удастся возвести планетоскреб и начать застройку Марса – экспедицию ученых и инженеров всенепременно будет сопровождать отряд специалистов по индустрии развлечений.
Сквозь пелену облаков мне видятся далекие огни барной стойки. Накрапывает сладкий ликерный дождичек.
Берлинер Бёрзен-Курир, 12.03.1922
Философия паноптикума
В пассаже «Унтер ден Линден» проходит исторический аукцион: распродается последний берлинский паноптикум. Целый мир воска, курьезов, поддельного сходства и неподдельного ужаса идет с молотка оптом и в розницу. А ведь это была и запечатленная в воске хроника скандальных происшествий, и увековеченная череда поворотных моментов всемирной истории, в сердцевине которых, по сути, тоже заложено нечто от восковой показухи – все эти парады, коронации и прочие пышные торжества.
Фриц Эшен. Аллея Победы в Тиргартене, также известная среди берлинцев как «Аллея кукол». Около 1936 г.
Благодаря символическому расположению экспозиции берлинского паноптикума лишь один шаг отделял там кабинет ужасов от сказочного зала, и лишь полотняная шторка – европейских монархов от комнаты смеха. Волею парадоксальной философии паноптикума земное величие и земные ужасы, увековеченные в воске, делались смешными. Никогда еще индустрия памятников не выпускала изделий, до такой степени лишенных торжественности. Эти фигуры обделены пиететом и пафосом заведомо. Гёте из воска по определению не обладает весомостью и величием мраморного Гёте. Податливый материал позволяет воспроизвести «совершенно как в жизни» цвет лица, но своей дешевизной компрометирует уникальность поэтического гения. Единственным достоинством паноптикума был как раз его непроизвольный комизм, снижавший всяческий пафос, превращая собрание восковых фигур в своеобразную комнату смеха.
Ибо главная задумка паноптикума – почти пугающее сходство с жизнью – неизбежно должна вызывать смех. Эта идея враждебна всякому подлинному искусству, поскольку воспроизводит вероятную внешнюю достоверность вместо глубинной внутренней правды, а значит – бездушную «похожесть» натуралистической фотографии или «копии». Вылепленный из воска маньяк-убийца всего лишь потешен. Но смешон и вылепленный из воска Ротшильд. Одного непригодность материала лишила всякого ужаса, другого – всякого достоинства.
Паноптикум пал жертвой нашего времени, его радостно пробудившейся жажды движения, что полнее всего воплотилась в кино. В век кино паноптикум уже никому ничего дать не в силах. В век интенсивного действия всякая застылость, сколь бы ни прятала она свою мертвенность под жутковатой маской жизнеподобия, попросту невозможна. Движущаяся тень для нас гораздо ценнее застывшего в неподвижности тела. Лицо, с которого не сходит улыбка, нас уже не обманет. Мы-то знаем: вечно улыбаться способна только смерть.
И вот, в последний раз, эти восковые куклы сегодня вновь пробуждают актуальный событийный интерес. Аукцион проходит – вот она, ирония судьбы! – в залах «Белой мыши»[6 - Скандально известное берлинское кабаре (открыто в 1919-м), где после полуночи демонстрировались монстрезные, якобы принципиально антиэротичные танцевальные номера с раздеванием. (Здесь и далее – примечания переводчика.)]. В вестибюле горой громоздятся восковые головы. Их удобства ради отделили от туловищ, но с некоторыми опознавательными остатками былой жизни. Вот бородатый мужчина все еще прячет под бородой свой галстук, а вон ворот рубашки льнет к ампутированной шее. Соблазнительно улыбается голая восковая девица, чью нижнюю часть варварски расколошматили во время транспортировки, – тем страшнее контраст между улыбающимися губками и изуродованным торсом, благодаря которому от фигуры впервые исходит некое – хоть и жутковатое – дыхание жизни. Впечатление такое, будто вскрыли массовое захоронение законсервированных человеческих голов, какое-то бранное поле мертвецкой жизни. Все эти существа были обезглавлены во цвете лет, так и кажется, будто их души буквально только что упивались радостью бытия и внезапная боль не успела исказить их лица судорогой смертной муки. Рядом с этой пирамидой голов (числом до двух сотен) суетятся и торгуются живые люди, тут же примостились и здоровенные мебельные грузчики, смачно уписывающие свою горячую похлебку.
В соседней зале выставлены чучела обезьян и обезьяньи скелеты, этот запыленный хлам популярной естественной науки, которая так любит демонстрировать свои результаты, стараясь умалчивать об их взаимосвязях. Тут же минералы и причудливые растения, а также дань культурно-исторической романтике – колчаны, стрелы и копья индейцев, – все это в совокупности являет собой как бы иллюстрацию и квинтэссенцию полуобразованности и беспорядочной начитанности, некий мир ненасытного книгочея дешевых брошюрок, вечно блуждающего в тщетных устремлениях узнать хоть что-то. Вид этих предметов внушает сентиментальную грусть, ибо они тоже, как и восковые куклы, жертвы нашей эпохи, породившей и формирующей все новых односторонних специалистов, готовя, надо надеяться, появление человека истинно глубоких знаний в противоположность нынешнему носителю знаний хотя и обширных, но половинчатых.
В аукционном зале вовсю идут торги, продаются слоновьи бивни, двое участников ожесточенно сцепились в схватке за старинную резьбу по дереву и медный сосуд неимоверных размеров, повидавший, не иначе, еще ихтиозавров. Просто поразительно, что в наше время человек способен выложить в день 100 миллионов[7 - Стоит напомнить, что текст этот написан во времена разгара инфляции в Германии.] и больше за какой-то хлам из металла, дерева или меди, за колченогие столы, уродливые тронные кресла, дурацкие комоды… Наблюдая за ним, я постигаю смысл распродажи: этот субъект покупает отнюдь не из сентиментальных побуждений. Он, напротив, человек нового времени – в коротком меховом полушубке, с толстой сигарой в зубах цветного металла, он – весь расчет и само спокойствие, ходячий арифмометр, поэт процентов, твердо уверенный в своих действиях и своей победе. Одному богу известно, чего ради загребают его руки все эти горшки, миски, деревянные резные фигурки и во что превратится вся эта рухлядь на его складах. Человек нашего столетия чеканит дукаты из любого хлама.
Значит, тем самым паноптикум выполнил свое высшее назначение.
Златокузнец новейших времен, современный алхимик, он добывает капитал из сенсаций прошлого. Этот отыщет философский камень в любой средневековой кастрюле – и не путем алхимического эксперимента, а на стезе спекуляций. Все дорожает от одного его прикосновения.
Вот он стоит, покоритель и властелин уходящих миров, ловец золота из чего угодно, способный переторговать и облапошить всякого и купить все. В его необъятном тулове ворочается весь вообразимый паноптикум былых времен – головы и чугуны, копья и обезьяны, убийцы и монархи, гигантские чудища и карликиуродцы. В нем для всего найдется место, ибо он – конечная цель и смысл паноптикумного бытия.
Берлинер Бёрзен-Курир, 25.02.1923
Александр Биндер. Лени Рифеншталь. 1928 г.
Неизвестный фотограф. Галстуки в витрине магазина мужской одежды «Шпарманн» в районе Штеглиц. Около 1932 г.
Неизвестный фотограф. Витрина берлинского магазина ночью. Около 1932 г.
Педагогическая витрина
Берлинская торговая корпорация осуществила весьма интересное и более чем наглядное начинание: преподавать населению «товароведение в витринах». Вот уже несколько дней Лейпцигская улица напоминает своеобразное торговое училище. В витринах можно наблюдать историю возникновения товаров: как, к примеру, из железной болванки путем превращения ее сперва в ленту проката, а потом во множество раскаленных полосок железа получаются в итоге перочинные ножи; как в порошковом состоянии выглядит эмаль, покрывающая наши кастрюли; как из голого проволочного каркаса и куска сукна или шелка сооружается зонтик. Мне бы в жизни не узнать, что первая попытка изготовить авторучку – под названием «переносное чернильное перо» – была предпринята аж в 1781 году, не озаботься магазин авторучек благородной целью ознакомить меня с историей этого полезного инструмента, с помощью которого я зарабатываю себе на хлеб. Мы ведь слепы и несведущи хуже младенцев! «Анабазис» Ксенофонта мы прочли, а как зонтик делается – нам и невдомоек. Зато теперь мы с изумлением и восторгом дефилируем мимо предметов, которыми пользуемся каждый день и которые здесь, в витринах, иной раз даже опознать не в состоянии. Отделенную от кастрюли ручку, в торжественном одиночестве возлежащую на листе стекла, нам идентифицировать не по силам. Составные части хорошо знакомых вещей обретают чуждое обличье и непостижимое уму практическое назначение. Металлическая головка мебельной ручки выглядит (отдельно от ящика письменного стола) бесполезной безделушкой. Вот так на Лейпцигской улице и учишься смирять гордыню, и всякий гуманитарно сформированный ум в уничижении самопознания почтительно склоняется здесь перед великим гением повседневной пользы.
Франкфуртер Цайтунг, 24.05.1924
Присягаю Берлинскому треугольнику[8 - Берлинским треугольником изначально именовалось одноуровневое пересечение трех железнодорожных магистралей в берлинском районе Кройцберг. После нескольких железнодорожных катастроф на этой развязке в 10-е годы ХХ века железнодорожные пути были разнесены на разновысотные уровни в сложном переплетении эстакад. Это сооружение по праву воспринималось многими современниками как символ новейших достижений инженерно-технической мысли, которые, как известно, оказали существенное влияние на художественно-эстетические тенденции в искусстве той поры – футуризм, конструктивизм, новую вещественность.]
Присягаю Берлинскому железнодорожному треугольнику. Это символ и первоисток жизнедвижущей энергии, провозвестье фантастического всемогущества грядущих времен.
Это средоточие. Это исток и устье всех обитающих окрест витальных сил – точно так же, как сердце являет собой исход и цель кровообращения. А здесь перед нами как бы сердце того мира, чью жизнь составляют обороты приводных ремней, ход и бой часов, жутковатый рывок поршня и вой сирены. Именно так и должно выглядеть сердце земли, вращайся она вокруг своей оси в тысячу раз быстрее, чем мы полагаем это ощущать по привычной смене дня и ночи; сердце, чье непрестанное, бессмертное биение лишь кажется безумием, но есть результат математического предвидения; чей неистовый ритм внушает всем любителям сентиментально оглядываться в прошлое суеверный ужас перед грядущим истреблением всех духовных сил и крахом целительного душевного равновесия, но на самом деле творит живительное тепло и благодать неизбывного движения.
В треугольниках, а вернее, в многоугольниках сходящихся и расходящихся рельс сливаются и разбегаются в стороны сталью поблескивающие жилы, черпая здесь ток, набираясь энергии для дальних маршрутов по мировым просторам: это жилистые треугольники, жилистые многоугольники, полигоны на перекрестьях жизненных путей – им, могучим и неисповедимым, я присягаю!
Им нет дела до слабаков, которые страшатся их и презирают, они этих слабаков не только переживут – они их перемелют. Кого их вид не потрясает, не преисполняет гордости, тот не заслуживает смерти, уготованной человеку божеством машины. Ландшафт – что содержит в себе для нас это понятие? Луг, лес, колос, былинку… «Стальной ландшафт» – вот, вероятно, подходящие слова. Стальной ландшафт, грандиозный храм машинной техники под открытым небом, освященный животворным, оплодотворяющим, порождающим нескончаемое движение дымом из высоченных, километроворостых фабричных труб. И на всех бескрайних просторах этого ландшафта из чугуна и стали, сколько способен узреть глаз до мглистой кромки горизонтов, – вечное камлание миру машин.
Таково царство новой жизни, чьи законы не способна нарушить воля случая, изменить чья-то прихоть, чей распорядок и ход являют собой беспощадную, железную закономерность, в чьих шестернях и колесах действует мысль, трезвая, но не холодная, разум, неумолимый, но не косный. Ибо только окоченение влечет за собой холод, движение же, гением расчета выведенное на предельную скорость, всегда и всюду творит тепло. Слабость всего живого, вынужденного мириться с природной мягкостью плоти, сама по себе еще не признак жизни, равно как и стальная прочность металлических конструкций, чьей стальной мускулатуре мягкость неведома, отнюдь не есть признак смерти. Это, напротив, высшая форма жизни, живое, созданное из неуступчивого материала, не подвластного капризам и прихотям, не имеющего нервов. В царстве железного треугольника царит неукоснительная воля целеустремленной, пытливой мысли, воплотившаяся не в мягком и ненадежном живом теле, а в непреклонном и неуступчивом теле машин.
Вот почему все человеческое в этом царстве металла заведомо выглядит мелким, слабым, никчемным, заслуженно обретая значение скромного подсобного средства для возвышенной цели – точно так же, как это воспринимается в абстрактом мире философии и астрономии, в мире ясных, великих и мудрых мыслей; маленький человечек в форменном кителе бродит здесь, как потерянный, среди многосложных переплетений рельс, путей и шпал, низведенный в их хитроумной взаимосвязи до функции обыкновенного механизма. Он значит здесь не больше какого-нибудь рычага, его действенность не важнее, чем действенность путевой стрелки. В этом мире его способность к общению и сообщению ценится куда меньше, чем механические знаки орудий, приборов и инструментов. Важнее руки здесь рычаг, важнее кивка – сигнал, глаз здесь ничто по сравнению с лампой, вместо крика – ревущий свисток парового вентиля, и заправляют этим машинными миром не страсти, а предписания и инструкции, то есть закон.
Домик путевого обходчика, обиталище человека, смотрится здесь игрушечной шкатулкой. Настолько ничтожно все, что в ней, с ним или его стараниями там происходит, настолько второстепенны все его дела и хлопоты – зачинает ли он детей, копает ли картошку, кормит ли собаку, драит ли его жена полы, вывешивает ли сушиться белье. И даже великие трагедии, разыгрывающиеся в его душе, на этом грандиозном фоне кажутся пустяком, мелочами быта. Его вечно-человеческое – всего лишь мелкая помеха самому ценному в нем, сущностно-профессиональному.
Возможно ли, позволительно ли еще слышать слабенький стук человеческого сердца в громе этого мирового биения? Взгляните в ясную ночь на железнодорожный треугольник, на эту осиянную десятками тысяч огней долину – она прекраснее и торжественнее звездного неба и с притягательностью хрустальных небесных сфер влечет к себе наши чаяния, суля исполнимость небывалому. Это и пауза, и начало, это увертюра грандиозной и прекрасной, уже явственно слышимой симфонии будущего. Поблескивая в темноте, нескончаемыми связующими нитями протянулись рельсы – из края в край, от края и до края. В их молекулах волнами бьется могучий перестук колес невидимых, где-то за горизонтом мчащихся составов, опрометью взбегают вверх по насыпям путевые обходчики, красными и зелеными глазами перемигиваются огни семафоров. Струи пара со свистом вылетают из вентилей, сами собой движутся рычаги, шатуны и поршни, чудеса сбываются наяву по воле многосложного математического расчета, не зримого оку и не постижимого уму.
Вот сколь неимоверны масштабы и мерки новой жизни. Само собой понятно, что новое искусство, призванное эту жизнь выразить, пока только ищет средства выражения. Эта реальность покамест слишком велика для подобающего ей, достойного ее художественного воплощения. Тут недостаточно просто «достоверного отображения». Надо ощутить высшую, идеальную сущность этого мира, платоновский «эйдолон» железнодорожного треугольника. Надо со всей страстью присягнуть его устрашающей непреложности, ощутить «ананку», наваждение, сокрытое в его смертоносной действенности, и лучше уж желать погибели по его законам, нежели стремиться к счастью по «гуманным» представлениям сентиментального бытия.
Вот таким железнодорожным треугольником, только неимоверного размаха, и будет мир грядущего. Земля прошла много преобразований – в природных границах. Теперь она переживает новое, совсем иное преобразование, по конструктивным законам, осознанным, но не менее могущественным. Скорбь о старых, отмирающих формах столь же бессмысленна, как бессмысленна тоска существа допотопной эры об исчезновении доисторического миропорядка.
Запыленные травинки грядущих времен будут робко прорастать между сталью и шпалами. Понятие «ландшафт» надевает металлическую маску.
Франкфуртер Цайтунг, 16.07.1924
Совсем большой магазин
Вообще-то большие магазины в городе уже имелись. Но всегда находятся люди, которым не хватает совсем большого магазина. Этим неуемным энтузиастам казалось обидным, что в здании магазина всего лишь четыре, пять, ну, от силы шесть этажей, и в своих дерзновенных амбициях они посягали грезить о магазине в десять, двенадцать и даже пятнадцать этажей. И помышляли при этом вовсе не о том, чтобы, допустим, подобраться поближе к самому Господу – что, кстати, было бы совершенно тщетной затеей, ибо, судя по тому, что мы знаем, к Нему нельзя приблизиться, поднимаясь как можно выше в облака, а напротив, лишь пресмыкаясь во прахе, из коего все мы сотворены. Отнюдь! Людям, мечтавшим о совсем большом магазине, хотелось всего лишь возвыситься над магазинами поменьше, наподобие бегунов наших дней, которые бегут не куда-то, а лишь затем, чтобы раньше соперников достичь финишной ленточки, неважно, где ее протянули. Энтузиастам совсем большого магазина грезился магазин-небоскреб. И вот в один прекрасный день такой магазин был построен, и весь народ туда двинулся, и я вместе с народом…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: