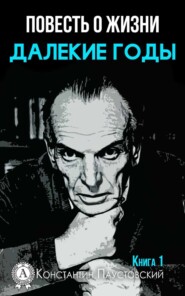скачать книгу бесплатно
Так же случилось у меня и со Cредней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.
С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.
Я не променяю Cреднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску – на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.
С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.
Я снова здесь в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный…
Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.
Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещёрская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».
В Мещёрском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»).
Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.
Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.
Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.
Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни – в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.
Каждая моя книга – это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.
Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.
Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров – те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.
Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По[3 - По Эдгар Аллан (1809–1849) – американский поэт, писатель-романтик, критик.], Врубелю[4 - Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – русский живописец.], Диккенсу, Грину и Малышкину.
Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных – о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях – своих закадычных друзьях.
В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от безвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.
Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.
Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.
Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества – вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.
К. ПАУСТОВСКИЙ
Несколько слов
Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное… Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.
В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.
Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.
По существу, творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.
Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.
Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.
Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.
Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.
К. ПАУСТОВСКИЙ
Далекие годы
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?[5 - «…Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» – Из стихотворения С. Есенина без названия («Не жалею, не зову, не плачу…»).]
Сергей Есенин
Смерть отца
Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.
На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.
Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.
Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина – гребля.
Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула – извозчик.
Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.
– Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, – решил наконец Феоктистов. – Ему сам черт не брат.
Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы»[6 - «Нива» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870–1918 гг.] в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.
– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом. – Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, – я не побожусь, что пять или, положим, десять.
– Спасибо, Брегман, – сказал Феоктистов. – Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.
– Ну, уж если я такой храбрый, – пропищал, усмехаясь, Брегман, – так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид»[7 - «Русский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813–1917 гг.]. Там я, по крайности, почитаю про кантонистов[8 - Кантонисты. – В России в 1805–1865 гг. так назывались сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.] и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.
Брегман ушел.
В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать».
Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.
Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.
Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.
Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.
Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.
Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.
На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.
В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.
Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.
В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.
– Эти сады очень любил Мицкевич, – сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.
Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.
В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.
Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.
Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.
Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.
Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.
Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.
– Гребля! – сказал он упавшим голосом. – Теперь молитесь Богу, пассажиры!
Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.
Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.
За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, – ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.
Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.
– Езус-Мария! – сказал он тихим голосом. – Как же мы переедем?
– Э-э! – ответил Брегман. – Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.
Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.
Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.
Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.
Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней – двое гнедых и серый – выволокли наконец коляску на остров.
Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.
– Еще жив, – ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. – Ждет. А где мама – Мария Григорьевна?
– Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.
Дядя Илько посмотрел на реку.
– Прибывает, – сказал он. – Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!
На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, выплаканными глазами.
В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.
Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.
Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани. Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.
Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:
– Боюсь… погубит тебя… бесхарактерность.
– Нет, – тихо возразил я. – Этого не будет.
– Маму увидишь, – прошептал отец. – Я виноват перед ней… Пусть простит…
Он замолчал и слабо стиснул мою руку.
Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был, по существу, совсем не статистиком, а поэтом.
На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.
На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом Псалтырь.
Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева[9 - Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – русский генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.] так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» – враль и болтун.
Он читал Псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.