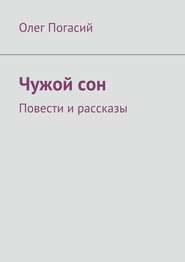скачать книгу бесплатно
Чужой сон. Повести и рассказы
Олег Погасий
Повесть «Чужой сон» написана в стилистике магического реализма. Главный герой Кирилл Воронин, поэт, захвачен идеей поэмы, в которой космические вибрации завязаны с ритмами сегодняшнего дня. Когда поэма почти написана, случается непредвиденное… Личность Воронина начинает распадаться; и он погружается в странную реальность, им самим созданную. Монстры, порожденные его сознанием, преследуют его. Действие происходит, как бы в двух реальностях. В повести параллельно сюжету исследуется душа поэта.
Чужой сон
Повести и рассказы
Олег Погасий
© Олег Погасий, 2017
ISBN 978-5-4483-2070-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Повести
Чужой сон
1
Кирилл скользнул взглядом по двум полицейским, подпирающим трубчатые перила ограждений у самого входа в павильон метро, и прибавил шагу. Но краем глаза заметил, как один, который пониже, всё же лениво оттолкнулся от ограды, вытертой до блеска спинами и ладонями законопослушных граждан и гражданок, и направился к нему наперерез. «Не избежать проверки. Опять попался, – злился на себя Кирилл, нервно прощупывая паспорт в нагрудном кармане куртки – и какая дурацкая привычка смотреть на них! Будто сам напрашиваюсь». Медленно разжимая ладонь, и прикладывая пальцы к виску, чтобы потом резко, как ошпаренные, их отдернуть, полицейский с улыбочкой, растягивая слова, начал прикапываться: «Здра-а-вствуйте, документики можно, куда е-е-дем?». Кирилл выудил паспорт из кармана и молча протянул.
«Та-а-к, Кирилл Воронин, где проживаем?» – не глядя на Кирилла, полицейский повертел в руках раскрытый паспорт, а затем вытащил из футляра на ремне портативный прибор, выкрутил окуляр и, скрючив физиономию, приложился к нему глазом. «Там же ясно всё указано» – сиплым то ли от волнения, то ли от раздражения голосом буркнул Кирилл. «Так где проживаем?» – не унимался полицейский. Но Кирилл уже почти успокоился. Оглядев с ног до головы служителя правопорядка, Кирилл ухватил интересный образ, его торкнуло оригинальное сравнение: его документ тщательно изучает рыба-телескоп, которая мутировала до чудовищных размеров, превратившись в полицейского.
«Промышленная улица, дом 12…»
«Мочите?» – перебила Кирилла неожиданным вопросом «рыба-мутант».
«Что «мочите?» – растерялся Кирилл.
«Паспорт мочите?» – не унимался оборотень в погонах.
«Дожди, наверное, мочат» – нашелся Кирилл, сообразив, что речь, скорее всего, идет о какой-то манипуляции с подделкой документов. «Дожди, – говорите» – нехорошо улыбнулся полицейский и, небрежно покачивая паспорт на двух пальцах, вернул документ с двуглавым орлом, золотящимся на корочке томатного цвета. Медленно повернулся, и побрел назад.
Стоя на ступеньках эскалатора, Кирилл Воронин плыл вниз. Обдуваемый волной метровского тепла, он всё еще переживал случившееся наверху, но в его настроении наступил перелом. От обороны он переходил в наступление, трансформируя негативные эмоции в позитивный поток, уже понемногу завладевающий им. Проступили даже торжествующие нотки. «А каково было бы нашему Пушкину, с эфиопскими-то корнями, – приглаживал он рукой свои темные волнистые волосы – это потом – «Солнце русской поэзии. Наше – всё». А сейчас – «Где проживаете, и куда едем?». «И вечно они что-то хотят найти у меня. Всматриваются. И ищут-то всё не то. А что истинное есть во мне – не видят. Да и не хотят видеть… – но, вспомнив оловянные глаза полицейского, нахмурился и оборвал себя – чего это я размечтался: ему до меня, как до одного места; штрафануть бы или в автозак затолкать. Вот и весь интерес на этом…». « Но ничего, скоро всё изменится» – разглядывая носки своих ботинок, Кирилл сощурился и хлопнул ладонью по резиновому поручню эскалатора, чуть-чуть убегающему вперед.
Подняв голову, Кирилл задержал взгляд на ползущей вверх, хорошо ему знакомой, скульптурной группе постсталинской эпохи труда и победы материалистического мировоззрения в отдельно взятой стране.
Под куполом ротонды высились: широкоплечий сталевар в защитном костюме, с длинной кочергой, прижатой к груди; шахтер с квадратным подбородком, держащий отбойный молоток на плече; и колхозница с пуком тяжелых пыльных колосьев, свисающих из натруженных рук почти до земли. А на заднем плане композиции проглядывался пропеллер самолета, вмурованного в грязновато-коричневую стену.
Кирилл уходил вниз. В подполье. А рабоче-крестьянский триумвират с двумя полицейскими под приглушенный шум эскалатора поднимался к самим небесам.
«Но ничего, скоро всё изменится» – поправил Кирилл Воронин завернувшуюся лямку рюкзака у шеи, и передвинул ладонь на поручне, чуть-чуть убегающем вперед.
2
Солнце припекало еще по-летнему, прогревая нутро пригородного поезда. Бросив рюкзак на полку, Кирилл сел у окна, прислонившись к теплой спинке сиденья. Народа немного. Хорошо. Можно всласть развалиться, а не сидеть, как вкопанному, перекладывая затекшие ноги. Поезд, раскачиваясь, и поскрипывая, как старый шифоньер, набирал ход. За окном мелькали серые фасады промзоны, длинные свинцовые лужи, бесконечные гаражи и бетонные заборы, разрисованные радужными угловатыми облаками, нацболовскими символами и «факами».
Кирилл зевнул и отвернулся; вяло обвел взглядом вагон, прикрыл глаза и углубился в темноту, пульсирующую привычными для него, много раз прокрученными на разные лады, рассуждениями.
Если кто-нибудь его спрашивал: «чем он по жизни занимается?», – Кирилл, многозначительно выдерживая паузу, помявшись, и помня завет классика «скрывайся и таи», слабо улыбаясь, что-то там врал, или, мягко говоря, вводил в заблуждение, – называясь то продавцом-консультантом обувного магазина, или грузчиком супермаркета, или, на худой конец, – лицензированным охранником.
Ну, во-первых, – эта идиотская постановка вопроса взрослому человеку относительно его места работы – «чем занимаешься?». Раньше спрашивали: «Где работаешь, кем работаешь?». А применительно к настоящему моменту: « Что делаешь?». Тяжелые глыбы этих слов, тогда казалось навсегда будут звучать фоном жизни. Кириллу это напоминало мраморную доску, ввинченную в фасад послевоенного ампира, с высеченными на ней датами жизни какого-нибудь видного советского деятеля науки или искусства, и с надписью, пугающей безысходностью перед временем: «Здесь жил и работал…» Это отдавало кладбищем. Но с начала девяностых лексика и синтаксис сильно изменились. Неработающие россияне перестали именоваться тунеядцами, появились «фрилансеры», а чтобы управлять крупным предприятием необязательно было иметь диплом технического вуза. Еще в детстве родители бывало найдя Кирилла, мечтательно уставившегося в трещинки на потолке или пространно наблюдающего легкое колыхание занавесок, тронутых весенним ветерком, строго опускали его на землю: «Хватит ковырять в носу, иди, займись чем-нибудь». Лет через двадцать он, наконец, последовал родительскому наказу, занявшись мелкооптовым сбытом повсеместного тогда дефицита. Вершиной его деятельности была торговля отечественной курятиной, при этом он успевал «втюхивать» еще и импортные презервативы. А один его знакомый настолько перестал «ковырять в носу», что перепробовав дюжину занятий, и вняв другому устойчивому выражению, стал «рыть землю рылом», занявшись перепродажей земельных участков.
Но это дела давно минувших дней, и в этом для Кирилла стояла лишь проблема выживания. Его ум и сердце мечтали совсем о другом. Как-то у одного известного литератора он вычитал, что назваться сейчас поэтом – будет равнозначно тому, чтобы заявить о себе: «Я – сумасшедший!».
Один раз, тоже в пригородном поезде, отвечая на такой вопрос, сидящему рядом бровастому дачнику, под настроение он выдавил из себя это подозрительное слово «поэт». Это вызвало удивление, быстро переходящее в скуку. К персоне Кирилла был потерян всякий интерес. Дачник нахмурил брови, закрутил головой по сторонам, и поспешил пересесть, бросив на прощанье испуганный взгляд. А никем другим, кроме как поэтом, «по жизни» Кирилл Воронин себя и не считал.
Чуткого слуха задремавшего Кирилла коснулись заунывные звуки, правда, похожие на музыку. Воронин открыл глаза. Напротив сидел юный паренек. Его худое тело было утоплено в стильные джинсы и майку непомерных размеров. Он выдувал изо рта розовый пузырь жвачки, болтал ногами в кроссовках со светящимися шнурками, и дергал головой в такт музыке, которую слушал через айфон. «Русский рэп, этого еще не хватало, – поморщился Кирилл, расслышав плохую ритмику речевок – придется теперь слушать этот маразм». «Что же ты, дорогой мой, слушаешь, – любой темнокожий из Бронкса или Гарлема споет тебе лучше» – хотел было образумить рэппера Кирилл, но увидев стену русского леса за окнами несущегося поезда, мягко улыбнулся и решил, что, пожалуй, не стоит. Закрыл глаза и постарался использовать раздражающий фактор в качестве толчка, пружины для разгона своих амбициозных помыслов. Он почти не сомневался в успехе задуманного.
«Всё дело ведь в музыке, или в ритме. В вибрации этого бесконечного пространства. Надо только уметь слышать. Стать частью этого пространства, на какой-то миг потерять себя в его безднах, чтобы потом вознестись к его звездам» – сладострастно накручивал себя Воронин и сильнее сжимал глаза, как будто стремясь еще больше сгустить тьму, тем самым приблизив к себе. Он решительно отказывал современной поэзии в каких бы то ни было попытках отобразить эти космические вибрации. Завязать их в один узел с ритмами сегодняшнего дня. Считал её местечковой, давно потерявшей свое сакральное назначение. И потому никак не причислял себя к весьма многочисленному поэтическому цеху. Он бы определил себя – диссидентом поэзии. Катакомбной её церковью. И если и называть их поэтами, – то нет, увольте! – для себя он готов подыскать какое-нибудь другое слово. Одни вовсю эксплуатировали своё филологическое образование, расширяли лексику, баловались историческими аллюзиями. Другие вводили прозаизмы и экспериментировали с размерами. Третьи «висели» сплошь и рядом на цитатах, превращая свои вирши в ребусы для непосвященных, немногочисленных читателей, но подыгрывали желчным критикам. А авторы верлибров, на взгляд Воронина, вообще окончательно выпихивали всякий дух музыки из текста. Были и последователи традиционного стихосложения. Хорошо усвоив технику, двигаясь по гладко обкатанной дороге, они добивались признания, получали премии, штампуя вполне добротные стихи. Но каких бы успехов кто бы ни добивался, а случались и превосходные стихи, и даже выпадали гениальные, это все равно ничего не меняло, – в них не было магической силы, способной творить жизнь. Иногда несколько снижая накал своих страстей, Воронин всё же допускал, что возможно кого-то упустил, не читал. Да, он бывал самонадеян, заносчив, но что с этим можно было поделать, если Воронин твердо верил, что заполнить этот бездонный вакуум призван именно он. Это убеждение преследовало его с того самого дня, когда придя из школы, он забыл выдернуть из розетки шнур радио, и после вечерних новостей, вместо концерта по заявкам, вдруг зазвучала «Весна священная» Стравинского. Кирилл был дома один. За окном расползались сумерки. Улицы были пустынны, как в зарубежном фильме. Он так и не включил свет. Он так и просидел в оцепенении у приемника, застигнутый врасплох этой музыкой. Звуковые картины вошли в его тело, растеклись по кровеносным сосудам, стали частью его самого. Он тогда сразу получил Знание. Посвящение в Великую Тайну Ритма. Это он понял чуть позже, ночью, ворочаясь на кровати, освещенный почти осязаемым светом луны. Но нужно еще многому учиться, набираться терпения, отвоевывая у серых будней пространство того Великого Ритма, расширяя и упрочняя его в себе с каждым днем. И ждать, ждать, и ждать. Но теперь время настало.
Кирилл вздрогнул, почувствовав на себе взгляд, – и открыл глаза. Рэппер испарился, а на его месте расположилась пожилая чета. Мужчина, в брезентовом костюме лягушачьей расцветки и в спортивных тапочках фабрики «Динамо». Он беззастенчиво рассматривал Кирилла поверх очков, сдвинутых на кончик мясистого в рыжих волосинках носа. И его, очевидно, жена, в вязаной кофте с большими потрескавшимися пуговицами, и тоже в тапочках «Динамо». «Вася!» – шепнула она, испуганно дернув слегка подведенными глазами в сторону Кирилла. «Ну, Вася!» – зашипела она бесцветными губами и ткнула окаменевшего мужа локтем в бок. «Да!» – отозвался Вася и клацнул подозрительно ровными, белыми зубами. Поправил очки, придвинул тележку на двух колесиках поближе к себе, и склонил голову в огромный кроссворд, развернутый на коленях жены.
А Воронин, перехватив инициативу, на минуту задержал на них взгляд.
Нет, конечно же, это не его аудитория.
Этот Вася, с возрастом потерявший стыд и зубы, – какой-нибудь бывший начальник цеха, а его конфузливая благоверная – бухгалтер или старший экономист из той же конторы.
Для них поэзия в юности ограничивалась школьной программой. В молодости некоторыми стихами Есенина и Смелякова. А сейчас – двумя-тремя строфами с глагольными рифмами в поздравительных открытках с выдавленными ядовитого цвета розами или пестрыми тяжеловесными бабочками.
Воронин часто представлял себя, читающего свои магические стихи хорошо подготовленной кучке интеллектуалов.
Это могло быть в небольшом полутемном зале союза писателей или композиторов. С лепным позолоченным потолком и бархатными креслами с выгнутыми спинками и ножками. Он вводит публику в состояние транса, вещая им ту тайну, которую они тщетно пытались откопать в дебрях своего измученного рефлексией сознания. В конце чтения – ни с чем не сравнимая пауза признания, разрешающаяся взрывом восхищения.
Затем, это уже Дом Культуры, куда, заинтересованный его феноменом, стекается многочисленный и достаточно разношерстный контингент. И наконец, на сцене большого концертного зала в свете юпитеров при стечении широких масс; где, хлопая сиденьями, в числе всех прочих и васи с их женами заблаговременно рассаживаются по местам, чтобы культурно провести вечер.
Впрочем, к славе Воронин был почти равнодушен. Он жаждал другого. Он знал: кто откроет в себе Ритмы Вселенной и воплотит их в Слове – получит безграничную власть над сердцами людей; над всем миром, сотворенным этими ритмами. И сами последствия рисовались ему с каждым днем всё более фантастическими.
Воронин едва не прозевал свою остановку. Да и к тому же рюкзак с предательски зацепившейся застежкой ремешка за решетку полки.
Он спрыгнул на мокрую гальку насыпи один. Только что прошел дождик.
Туман клубился и клочьями цеплялся за верхушки высоких елей. Поезд растворился, как будто его и не было. От тишины звенело в ушах. Он закинул рюкзак за спину, вдохнул полной грудью дурманящий сырой воздух и, разглядев в траве тропинку, легко сбежал вниз.
3
Попутку Воронин поймал как только оказался на шоссе. Зеленый грузовик с крытым кузовом вынырнул из тоннеля под железнодорожной насыпью и резко тормознул.
«Залазь в фургон, – приоткрыв дверцу, скомандовал Кириллу рыжий
шофер, и, постучав по задней стенке кабины, крикнул – Вовка, открой человеку!».
Дверь сопротивлялась, но, после пары увесистых ударов, распахнулась. «Не хочет, бляха-муха!» – ругнулся плечистый малый в черном комбинезоне и высунулся из фургона. «Давай, давай живее» – протянул он Кириллу волосатую руку.
В фургоне воняло бензином, маслами и, как показалось Кириллу, несвежей едой. Из двух маленьких окошек под потолком пробивался серый свет. Было полутемно. На полу валялись разводные ключи, звенья разорванной цепной передачи, и, втоптанные в пол, брезентовые рукавицы. Машину бросало из стороны в стороны. В углу грохотал ящик с гайками и покачивался бидон с темно-коричневым солидолом, с воткнутой в него деревянной лопаткой. Кирилл почувствовал привкус, как будто он только что попытался подсосать ртом насос и глотнул бензина. Его замутило.
«Да ты не бойся, садись, – хлопнул ладонью по ящику, поставленному на попа, Вовка – до озера успеем разок перекинуться».
Кирилл справился с приступом тошноты, икнул и безвольно присел на ящик.
Напротив, тоже на ящиках, широко расставив ноги, удерживая равновесие, сидели Вовка и еще один. В таком же комбинезоне, наголо бритый, с крепкой шеей, удивительно похожий на Брюса Уиллиса, только с испачканными сажей щеками и лысиной. Вовка был тоже хорош. Кирилл видел в детстве на обложках журналов фотографии таких счастливых нефтяников у буровой скважины, вымазывающих свои лица фонтанирующим черным золотом. Между ними стояла перевернутая пустая железная бочка, покрытая газетой с жирными пятнами и яичной скорлупой. Посередке лежала засаленная колода карт.
Увидев, что Кирилл удивленно смотрит на его товарища, Вовка усмехнулся и кивнул на лысого: «Вылитый этот… американский актер, крутой такой, всегда, ёп твою, мочит всех, – как его?».
«Брюс Уиллис» – натужно улыбнулся Кирилл. «Брюс Уиллис» – невозмутимо пробасил бритый.
«Точно… он самый» – не решился произнести имя актера Вовка.
Карты метал Вовка. Брюс Уиллис стряхивал с газеты прилипшую скорлупу. Кирилл прислушивался к себе: как там – не лучше ли стало?
Кириллу выпали пять пик и один червовый валет, козырной.
Он развернул карты веером в левой руке и перетасовал их, оставив в конце красное сердечко. Если отвлечься от игры, то россыпи пик ничего хорошего не сулили. Кирилл помрачнел. Но был еще козырной валет, как рубиновый сигнал светофора в беспросветной ночи пикей. «И эти чумазые – Кирилл поднял глаза на Вовку и Брюса Уиллиса – той же масти – пики!».
Дальше Кирилл приравнивал их уже к чертям. А этот вонючий громыхающий фургон – к рейсовому транспорту по доставке грешников в ад.
«Бей, чё задумался!» – весело рявкнул Вовка, и, не заметив реакции Кирилла, сунул два мизинца в уголки рта и резко свистнул. Кирилл в дураках не остался.
«Вот сука!» – хлопал, не лезущей в проем, дверью Вовка. «Не хочет за тобой закрываться!» – кричал он в спину Кириллу. Но Кириллу было нехорошо в груди, ноги подкашивались от слабости, и он, не оборачиваясь, семенил к озеру.
«Что-то хлипкий стал, на такое замахиваюсь, а тут за десять минут так уболтало, хоть ложись и умирай» – расписывался он в своей немощи, черпая ладошками воду из озера, ополаскивая лицо.
«Черти, натуральные черти, и ничего им там, даже в масть».
Машина газовала, но с места не трогалась. Высунулся и Брюс Уиллис, покрутил головой и, увидев Кирилла, стал что-то живо втолковывать Вовке, тыча указательным пальцем на присевшего у озера Кирилла. Вовка одобрительно закивал в ответ и, заметив, что Кирилл смотрит на них, замахал руками, подзывая к себе. «Высмотрели – пригнул голову Кирилл и внутренне съежился – и чего они задумали?». «Сейчас как выгнут хвосты колесом, несколько уменьшатся, спрыгнут и поскачут к нему!» – и сам испугался такой своей смелой фантазии. Но машина рванула, и Вовка с Брюсом Уиллисом опрокинулись в темноту фургона.
Кирилл дождался, когда стихнет мотор, подтянул лямки рюкзака, встряхнул его, забросил за спину и быстро зашагал в сторону леса.
«Главное добраться засветло» – прибавлял он шагу, поглядывая на летящее в лиловых тучах солнце. Погода налаживалась. Дождик перестал моросить. И Кирилл постепенно обретал радость бытия, даже избыточную, компенсируя тем самым свою недавнюю слабость.
«Умотали так умотали!» – посмеивался он, ловко, как ниндзя, прыгая по болотистым кочкам, сплёвывая въедливую мошкару. «Выполз оттуда чуть тепленьким» – поддразнивал себя, лихо, как десантник на полосе препятствия, проходя буреломы, выдирая рюкзак из цепких лап густого ельника.
Кирилл все-таки выиграл гонку со временем и, когда красное солнце было уже наполовину съедено чернеющими на далеких холмах елями, вышел на огромное поле нескошенных трав, окруженное высоченным лесом.
Он скинул рюкзак и сел рядом на влажную траву. «Здесь всё так же» – вздохнул он с облегчением, снял с брючины налипший репейник, и вздохнул еще раз.
«Никого. И только ветер шелестит в листьях деревьев, да разгоняет волны трав».
На эту брошенную, еще со времен советских пятилеток, деревню он набрел случайно, решив однажды срезать дорогу от озера к электричке. Молодая жизнь отсюда давно разбрелась по районным центрам и городам, а старики и того дальше – по невидимым странам своих успокоенных душ. Воронина притягивало это место, и он время от времени наведывался туда.
Годы перестройки не принесли ничего нового. Дома разрушались, зарастали травой. Хотя, на одной берестяной крыше затрепетало листочками молоденькое хилое деревце. Суетливые девяностые обошли стороной. Из десятка изб, остались две. Сгорбленные, с покосившимися углами. Остальные сравнялись с землей. Воронин как-то заночевал в одной избе. Луна через окошко заливала зеленоватым светом половину комнаты, располовинив и его тело. Воронин будто пребывал в двойственном состоянии. С одной стороны – до пояса он был во плоти, но его верхняя часть – растворяясь в лунном свете, теряла материальную основу. И он тогда внезапно вспомнил ту ночь, ночь посвящения в Тайну Ритма! Ощутил свое могущество, неземное вдохновение! Вскочил, и его призрачная рука потянулась к пластмассовой ручке на столе. Он схватил первый попавшийся под руку клочок бумаги и вдавил в него шарик ручки, но… время еще тогда не приспело. Он так и не смог разобрать, что это могла быть за первая буква, первый звук Великой Тайны, но понял, что, наконец, нашел место на земле откуда для него открыто общение с Космосом.
Кирилл Воронин встал, закинул за плечо рюкзак, и направился к темному дому. Осторожно ступая по скрипучим половицам, проверяя их на прочность, он прошел в дальнюю комнату с печью. Высыпал из рюкзака на стол продукты на неделю, тетрадь с ручкой и упаковку свечек. Сел на стул и глянул в окно. За год пейзаж не претерпел никаких изменений. Всё те же поля, окаймленные лесом, и столбы с проводами, похожие на поднявшуюся в атаку белогвардейскую цепь, да так и оставшуюся в сознании, сраженного в тот миг пулей, обороняющего деревню красноармейца навечно, ну хотя бы еще на один год.
Последний столб, с щупальцами оборванных проводов, успел добежать
почти до Кирилловой избы.
Воронин выдернул длинную свечу из связки и поставил её в пустой стакан. Чиркнул спичкой и запалил фитиль. За окном быстро темнело, и комната наполнилась мягким дыханием света.
Он непременно, непременно, услышит эту ноту тишины, – и на него обрушится Космос. И он к этому готов.
4
Кирилла так сморило за день, что у него всего и хватило сил: сходить зачерпнуть полведра воды из ключа, бьющего в лощине недалеко от дома; с трудом растопить печь, поначалу гудящую холодом и выедающую глаза дымом; вскипятить, оставшийся еще от хозяев, закопченный насмерть с кривым носиком чайник; выпить подряд три стакана чая с мутноватой, но зато настоящей родниковой водой; и завалиться на кровать с железной сеткой, провисшей почти до пола, как в люльку. Сон окутал мгновенно, оставив в своем коконе лишь небольшие просветы реальности в виде пыхающей огнями, остывающей, печи, да далекого рыхлого лая собаки.
На следующий день Кириллу предстояло очень серьезное дело. Хотя, со стороны это могло показаться пустейшей затеей, или даже придурью. В сарае, где в потоках дневного света, пробивавшегося через щели, плавали пыль с паутиной, он отодрал, как шкуру, вросший в пол мешок. Растащил слипшуюся мешковину, хорошенько её встряхнул, кинул на плечо и, надев высокие резиновые сапоги, угрюмо простоявшие в углу бог его знает сколько времени, отправился в лес собирать опавшие листья. И был избирателен и в своей избирательности странен. Казалось, куда живописнее – осиновый багряный, как сбрызнут лимонным соком, – или березовый желтый-желтый, как яичный желток, в веселых крапинках, одно загляденье – ан, нет! – не суждено им оказаться в мешке. Красота, «очей очарованье», и прочее, – здесь явно не служили критерием отбора. Но выходило как раз и наоборот: полусгнившие, потухшие листья, как вот эти дубовые с завернутыми краями, похожие на подгоревшие оладьи, получали неоспоримое преимущество в сравнении с их прекрасными собратьями. Он подолгу всматривался, раздумывал, обнюхивал, а в некоторых случаях – пробовал на язык, прежде чем соглашался опустить листик в мешок. К полудню с листьями было покончено. Кирилл вывалил из мешка разложившийся невесомый труп облетевших деревьев в таз, помешал рукой по кругу, наклонился и глубоко вдохнул – у него засвербело в носу и он от души чихнул, что звякнула ложечка в стакане с недопитым чаем. А когда наступила полночь, Воронин вытащил из кармашка рюкзака фонарик, щелкнул кнопкой и направил луч на стену, проверяя интенсивность света – остался доволен – в ярком круге отчетливо просматривались блеклые ромбики выцветших обоев, которыми была оклеена фанерная перегородка, разделявшая дом на две комнаты. Он опять накинул мешок на плечо, натянул сапоги и отправился в ночную темень, на этот раз за травой. С травой оказалось куда проще. Высокая и густая покрывала весь овраг у ручья. Воронин стал было прочерчивать зигзагом света тропинку, как вскоре понял, что вполне может обойтись и без фонарика. Свет полной луны, делая всё вокруг похожим на таинственные декорации какой-нибудь одноактной ночной мистерии, выстилал главному герою белую дорожку прямо к зарослям травы. Но на полпути Воронин остановился. Воронин замер, увидев над черным лесом Фудзияму, горящую желто-зеленым светом! Это так постарались наплывшие тучи прикрыть луну. Или как будто кто-то невидимый маникюрными ножницами взял и вырезал из луны японскую гордость, отбросив обрезки, как ненужные «летающие тарелки». «Японская миниатюра в космическом переложении» – подытожил Воронин, подойдя к оврагу, и тут же мысленно отругал себя за непозволительную роскошь тратить время на постороннее. Но, как зачарованный, краем глаза еще разок глянул на луну. Фудзияма сильно покривилась и съехала вбок, но всё еще держалась на притянутом к первоначальному образу воображении Воронина. «И почему эта гора с длинными гладкими склонами – всё-таки Фудзияма, а не что-то другое, к примеру, – Ключевская сопка, тоже вулкан, на том же Дальнем Востоке, да и ключ бьет рядом? Это надо покопаться в себе. Хотя позже обязательно выстрелит». «Но времени, времени же впритык!» – одернул себя Воронин и, спустившись быстро в овраг, бросился рьяно рвать траву и набивать ею мешок. Он поначалу не придал этому звуку значение, пропустил мимо ушей. Но когда это повторилось, тревожно поднял голову. По телу пробежали мурашки. «Это что тут за плач ребенка?» – покрутил головой по сторонам Воронин. «Откуда-то сверху, и рядом». Он включил фонарик и осветил ель. Луч пробежал по дремучим тяжелым ветвям и скользнул по небу. Ни шороха. «Разгляди здесь чего-нибудь, ну и не лезть же туда ночью» – разрешил он ситуацию и сел на мешок нафаршированный травой. Ждал минуту, другую – повторится или нет? Хрустнула ветка. Воронин вздрогнул. Посветил на ель. На небо. Ночь. Неподвижность. И далекое кажется близким, и близкое так далеко, – в такую-то лунную ночь. « Может быть плачет во сне дитя в какой-нибудь деревне, зовет мамку. А я тут шарахаюсь вокруг елки». А вот и разгадка к Фудзи грохнула средневековой японской поэзией – «Ночь. Неподвижность и тишь. Зловещий плачь ребенка.» Подстроенная под русскую речь хокку-страшилка. «Такое настроение, всплывшее в той культурной традиции, бродило во мне, когда я вышел в ночь, ища за что бы зацепиться, и вот – сначала непосредственный зрительный образ, а потом, как обобщение – стих. Но был ли тогда плач ребенка, вот в чем вопрос?» – довольный такими измышлениями закинул Воронин мешок за спину и пошел в дом.
До двух оставался почти час. «Быстро я управился» – похвалил себя Воронин и высыпал мокрую траву на длинную лавку у окна. «Пускай подсохнет, а мне б немного расслабиться, такое услышать там… чуть сердце не разорвалось на части» – покачал головой и полез в скрипучий жесткий гамак кровати. «Странные вещи происходят со временем – старался переключиться он от, еще стоявшего в нем знаком вопроса, того пронзительного, надрывного плача – на отвлеченные темы – там под елью, в ночи, мне всё казалось, что не успеваю, времени в обрез, а сейчас, если вспомнить, то всё происходило как в замедленной съемке… или того больше, вообще отдельные кадры событий, как будто затстревали… и жизнь останавливались.» Размышлял Воронин, уже посапывая.
Он вскочил ровно в два. «Есть все-таки биологические часы!». Помассировал на локте розоватый рубец, оставшийся от сетки, потер руки и приступил к тому, ради чего весь сыр-бор. Взял со стола полиэтиленовый пакет, разрезал уголок ножницами, и высыпал порошковое молоко в глиняный кувшин. Налил из ведра воды в кастрюлю, подбросил в печь дрова, и, стащив кочергой закопченный кружок из пылающей дыры, обжигая пальцы, поставил воду. Вода вскипела в минуту. Воронин выпустил из-под брюк рубашку и, окутав краем материи кисти рук, снял с печи раскаленную посудину и поставил на стол. Вылил кипяток в кувшин. Комки белого порошка всплыли, но вскоре растаяли, как остатки льда и снега в периоды глобального потепления в Ледовитом океане.
Оставив молоко остывать, Воронин занялся листьями. Он отщипывал от листьев потемневшие, полусгнившие края, растирал их в ладонях и стряхивал в кувшин с молоком, а прилипшие к рукам кусочки счищал в молоко ногтем большого пальца. И с листьями Воронин справился скоро. Довольный, что всё идет как надо, он взболтнул своё варево и накрыл кувшин блюдцем. Собственно, всё, что он только что проделывал, было не чем иным, как претворением в жизнь магических строф, написанных им несколько лет назад, и как раз для этой решающей ночи.
Воронин обладал абсолютным поэтическим слухом, в этом он никогда не сомневался. Стихотворную метрику окружающего бытия, его осмысления, музыку жизни – он схватывал мгновенно.
Но жизнь, не всегда укладывается в прокрустово ложе классических размеров, и потому из-под его пера выходили самые неожиданные комбинации. Это могло быть всё что угодно: какие-нибудь Кентавры Хореев и Пиррихиев, или Трибрахий пожирающий Дактиля. И прочие Чудовища. Но это его мало занимало. Этим пусть занимаются литературоведы и критики, это их хлеб.
Как и с этими строчками:
Молоко волью горящее в глиняный кувшин,
С листьев примешаю кровь и гниль.
Здесь неточная рифма «ин» – «и гн», соскальзывающая в «иль», – помимо того, что сдвигает, деформирует пространство, очерченное под мистическое действо, еще, ко всему, и выводит за эту черту. И если сильно захотеть, то начинают слышаться протяжные, жутковатые песни подслеповатых крючконосых колдунов, ворожащих над своим приготовленьем. А от звенящих металлом, неприступных «н» приходит понимание исключительности своей личности, наделенной высшим знанием.
А траву полночную разнесу кругом,
Запахи, как гвозди заколотят дом.
А здесь «ом» – «ом» создают гипнотическое ощущение замкнутого пустого пространства, вырывающегося из мелкотемья простой крестьянской избы и поднимающегося до обобщений, поистине, космического масштаба. А чего только стоит парадоксальная метафора « запахи, как гвозди заколотят дом»? И разве
не слышно как стучит молоток по согласным «л» – «т» – «т», и по «д» – «м» вбивает эти гвозди по самые шляпки?
Воронин взял с лавки охапку травы и стал разбрасывать по углам, всовывать в щели между бревнами стен, заталкивать под потолок.
Настала очередь за кровью. За его кровью. Хотя в стихотворном тексте говорилось про кровь гнилых листьев. Чья же в действительности должна быть кровь, знал только Воронин. Его, только его. Его кровяные тельца должны войти в соприкосновение, в неразрывную связь с молекулами и атомами природы. Так что, кто другой, без знания этого, как ни бейся за приготовлением магического пития, ничего не выйдет. Стих нарочито вводил в заблуждение. Тайное – не может быть делом рук непосвященных. Воронин раскрыл складной нож, и надрезал указательный палец правой руки. Когда кровь заполнила ранку и алая капля побежала по руке, он окунул кровоточащий палец в теплое молоко. Молоко потопило в себе его кровяные тельца, не оставив на поверхности никаких следов. «Ну вот и с этим покончено» – хлопнул по коленям Воронин, взял нож, подошел к окну и воткнул острое лезвие в переплет. «А это, – чтобы никакая нечистая сила, из любопытства, или зловредности не проникла в дом». Он подергал нож за пластиковую рукоять с никелированными заклепками. Нож держался крепко. До трех оставалось полчаса. Воронин поправил догорающую свечу в стакане, снова прикрыл кувшин блюдцем и, посасывая ранку, сел на лавку ждать.
Черное подспорье убелись как снег,
Никому ни слова – Тайну Слова мне
Аще избран ведать буду невредим,
Где другой не к месту – я – огонь и дым!