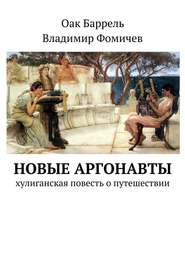скачать книгу бесплатно
Новые аргонавты. Хулиганская повесть о путешествии
Оак Баррель
Владимир Фомичев
Случается, в тихой жизни, далекой от тревог и излишеств, Судьба вдруг выкидывает коленце, и все летит галере под корму – встречаешь новый день аргонавтом, плывешь за руном в Колхиду и вообще встреваешь во множество безобразий. Еще эти женщины с Лемноса, чтоб их по самые… Два немолодых гражданина – суровый и справедливый монах Филон и смиренный дачник Петрович – ради Вашего высокого удовольствия окажутся в необыкновенных обстоятельствах, которых авторы Вам ни в коем случае не желают.
Новые аргонавты
Хулиганская повесть о путешествии
Оак Баррель
Владимир Фомичев
© Оак Баррель, 2017
© Владимир Фомичев, 2017
ISBN 978-5-4483-7742-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Случается, в тихой жизни, далекой от тревог и излишеств, Судьба вдруг выкидывает коленце, и все летит галере под корму – встречаешь новый день аргонавтом, плывешь за руном в Колхиду и вообще встреваешь во множество безобразий. Еще эти женщины с Лемноса, чтоб их по самые…
Два немолодых гражданина – суровый и справедливый монах Филон и смиренный дачник Петрович – ради Вашего высокого удовольствия окажутся в необыкновенных обстоятельствах, которых авторы Вам ни в коем случае не желают. Но «наши», конечно, победят!
Два товарища
В то утро воскресного дня теплой, млеющей в перелесках осени, Петрович пребывал на веранде своего небольшого удобно устроенного дома цвета чертополоха, и вкушал чай с лакомым морковным пирогом. Эта невинная страсть к моркови всех видов приготовления умиляла когда-то родителей нежного, опушенного пшеничным локоном мальчугана, ласково именуемого Левушкой. Пронес же он ее чрез тревожные сны юности, невзгоды и оклеванные вороньем пажити зрелости, перипетии заводской, а после конторской службы, брак и усыхание оного, отринутого однажды и схлопнутого до размеров фотоальбома. Пирожок был не ахти какой, приготовленный неумелой рукой, но сытный и обильный начинкой. В общем, Петрович пребывал в благоденствии и твердом намерении таковое развить до просветленной радости.
Дом, стоящий среди низкорослого сада, посильно вторил набухающим лучам солнца и выражал оптимизм вполне довольного собой существа. Был он не лишен причуды, какой награждают свои творения зодчие средней руки, почесать которую не обо что, кроме дачного Парфенона. Шелушение окрашенных не в прошлый год стен издали вполне могло сойти за патину самого благородного происхождения. Кое-где, то гуще, то реже были нарезаны по доске узоры и даже легко различимые единороги вперемежку с парящими аэропланами, занятыми то ли бомбометанием, то ли фотографированием сих мифических стад. Просторная и удобная веранда манила отвернуться от суеты в благоденствии поселковой тиши. Окна, высокие и чистые, не без версальских мотивов, лишь слегка отвлеченных резными петухами, светились хозяйственным дружелюбием. Наибольшее впечатление производила стланная мореной доской крыша в форме перевернутой каравеллы. Уже сколько труда было выточить и приладить такое диво, не говоря о прилежном за ним уходе – подгонке по стыкам, смолении, подбое… Но Петрович, эмоционал и романтик, ни в какую не соглашался допустить над своей единственной головой ни мещанского куска жести, ни пахучей гудронной дерюги. «Вирджиния!» – гордо называл свой подмосковный дом его неутомимый владелец, показывая иному фото, а то и представляя в натуре редкому счастливому гостю. То, что кургузая его крыша имела наибольшее сродство с перевернутой одесской шаландой, вежливо замалчивалось.
Календарь на стене прямо указывал на то, что никаких беспокойных действий в ближайшие часы предпринимать не следовало и даже категорически возбранялось. К тому же над страной хлопал незримыми флагами праздник N, считавшийся, по календарю судя, хоть и частным в первооснове, но, безусловно, всенародным – если набраться духа и не мельчить, выискивая в истории ненужные теперь никому подоплеки.
Именно духа и не хватало Петровичу в этот час. Он, вроде бы, и витал так и сяк за плечами, грозился смазанной тенью с шитого вагонкой потолка, но никаким способом явно не проступал, омрачая сердце. «Дрянное утро», – чуть не подумал Петрович, но вовремя осекся, сберегая ощущение благодати. Ох уж эта человеческая натура: настроение словно мяч на пригорке – шать! и уже не поймаешь, пока не скатится в самый низ, где найдется в любую сушь лужица с ладонь, в которой и остановится подлый шар, изгваздав бока. Ты никогда, ни на спор, ни забавы для не попадешь в нее с двух шагов. А он, безмозглый кругляк, окажется в ней сам собою, хоть брошенный наугадпод Рязанью.
Ответ был прост, и взгляд верандного сидельца сразу натолкнулся на него, стоило заглянуть внутрь: в такой день никак нельзя было оставаться одному! Невозможно. Немыслимо. Негоже. Нужно было видеть человеческое лицо пред собою. Еще бы лучше – лик. Но, мечтая о большем, не упустить бы ту траченную синицу, что, не насытив вдосталь как журавль, все же не даст пропасть вовсе.
«Душевности прибавит полулитра под свежую огородину», – обернул в праксис свою теорию опытный Петрович и, воздав должное крепкому трудовому колену, распрямился, направив стопы за пределы своего оазиса, чтобы обнаружить компаньона, пригодного составить желательный альянс.
Уже гораздо после можно будет рассказывать эту историю людям – хоть с соборного крыльца и на все лады. Тело, иссушенное походным солнцем, припрячет сетку боевых шрамов, и взгляд подернется чуждой подмосковным опрелым дачам синевой далекого моря… Теперь же немолодому герою предстоит отмахать прилично шагов, чтобы встретить своего грядущего ратного сотоварища монаха Филона – элемента идеологически чуждого, но жизненно необходимого в философском диспуте.
Сразу скажем и будем того придерживаться: ни о каких женщинах Петрович в светлую пору не мыслил, чтобы не омрачать ее пустыми переживаниями. Нет, женщин он не чурался и даже вовсе наоборот. Однако добиться от сожительниц мудрого суждения или послушания фарфоровой собачки удавалось редко, да и результат наводил тоску, вызывал желание напиться, удавиться ремнем и произвести генеральную уборку. Лесному ежу понятно, что в итоге подобные эксперименты окончательно убедили немолодого естествоиспытателя в губительном воздействии бесконтрольного либидо на гармонию высших сфер, а потому он принялся их дозировать и ставить в нужное место (случалось, даже в угол), не путая божий дар с яичницей, как то делают менее прозорливые субъекты.
Ну да мы отвлеклись. Приступим же, не теряя нить, к главной линии повествования!
Филон был обнаружен Петровичем, и очень скоро, у автобусной остановки. Монах сидел на перевернутом оцинкованном ведре в тени еще зеленого тополя и молча провожал взглядом транспорт, соединявший далекое и близкое великой силой счастливого билета. Ветер трепал его волосы, выступавшие из-под клобука над ушами. Серебро их возвещало мудрость. Руки же выдавали трудовой элемент, каковым брат Филон издревле и являлся – то есть от юношеской поры, проведенной в общественных трудах всех сортов на просторах необъятной могучей Родины, сильно убавившей теперь в размерах.
– Вот, шестой номер отъехал, – заговорил монах первым, обращаясь как бы и к Петровичу и мимо него. – И скоро опять шестой будет. Как пить дать!
Петрович недоуменно уставился на причитающего на ведре друга. Да, думаю, мы вправе это сказать – и без всякой дрянной мыслишки. Не было в их дружбе ни выгоды, ни уговора, не была она следствием лишений и тесноты, пережитых вместе – если не считать тесноты духовной, требующей выхода не меньше раскаленного пара под свистком. Отставной заводской приемщик и лицо духовное находились в отношениях светлой и бескорыстной дружбы.
Прошло лет тридцать, как погруженный еще в заботы службы Лев Петрович Обабков познакомился здесь же в N-ске с подвижным как ртуть послушником, норовившем благословить корзину яблок на воскресном базаре. Затем был благословлен карп, еще живой, но не строящий иллюзий. Дойная коза Машка вкупе с одноименной родственной по виду хозяйкой… Так бы, поди, благословил Филон весь Белый Свет и простер руки вовсе на запретное, если бы тот день ни окончился под клеенчатым навесом пивной точки, принадлежавшей какому-то кооперативу со странным и нелогичным названием – то ли «Добрые пчелы», то ли «Зеленое солнце»… Не важно, впрочем. А важно то, что с тех пор эти два человека были словно связаны одной нитью философического родства. Но даже эта нить не помогла Петровичу угадать суть нынешних занятий Филона.
– К чему это ты? – вопросил он монаха.
Тот ответил с ведра, пронзительно глядя вдаль, хотя и было этой дали не более крикетной площадки (время от времени мы будем позволять себе совершенно неуместные сравнения):
– Что ж не ясно? Говорю: шестой. Раз шестой, другой шестой и вот снова он.
– А… – протянул дачник. – Ехать собрался?
В словах его промелькнула грусть. Да еще эти числительные… С точными науками у Петровича ладилось так себе: вселенная представлялась ему единой и неделимой, а профессия бухгалтера – зряшной.
– Да нет! – Петрович тут же воспрял духом. Так вот непостоянен человек, скажете вы, и не промахнетесь. – Автобусы считаю. Не гоже ведь! Вот хоть бы тот, – кивнул монах в сторону остановки. – В картузе, вишь, сучок древний? С час уж стоит! Весь извелся. Поначалу он прямее стоял, лучше. А вот теперь и не то, что стоит, а больше на ограду наваливается. Да… Или вон эти двое. А, Бог с ними! – выпалил Филон, снимаясь с ведра. – Накипело! Прости, Господи.
– И давно ты так? – странноватому занятию друга Обабков не удивился.
Монах вечно что-то чудил, насаждая людскую правду. А особливо жалел бессловесных тварей. Помнится, за пинок отощалой суки у магазина Филон так благословил грузчика поперек тулова, что чуть не загремел на пятнадцать суток. И потом еще с месяц насупившись ходил мимо, пока негодяй прятался от него за ящиком. Природа наделила Филона могучим телом, с которым тот управлялся на удивление ловко, духом воина и голосом в столь низких басах, что слова были видны в воздухе.
– Обожди, – монах оттеснил дланью друга и взялся за край перевернутого судна. – Да не убудет. А, воля Божья, так и не денется никуда. Потом подберу.
С этими словами он чуть ни насильно усадил на ведро огорченного задержкой автобуса старика, осенил щепотью получившуюся композицию и, не глядя, пошел назад. Приунывший в ожидании реликт чуть не заплакал от такой заботы, устроившись на жестяном низком сидении с блаженством, которое не даст венский стул.
– Я тут подумал, – завернул Петрович.
– Ну так пошли, раз подумал. Негоже мыслям попусту голову сотрясать. А! Вишь, что творят?! Снова шестой! Изуверы.
Вернувшись с вечным своим товарищем, Петрович затопил баню. День вошел в раскачку. К обеду стало жарко и они, напарившись до приятного изумления, расселись в теньке на плетеных креслах, степенно принимая тягучую ягодную настойку, которую закусывали по-дачному – пахучим малосолом, огурцом с грядки, крепчайшей редькой. Настойка эта, кажется, текла прямо в душу, минуя желудок, располагая к созерцанию и раскрытию мировоззренческих истин.
Разговор шел о вещах для Подмосковья неожиданных. Нет, конечно, в кругах эллинистов где-нибудь на Воробьевых горах, и даже с наливкой в граненой рюмке – отчего ей не быть в университетах? – случиться такой беседе не в диковину. И чем крепче наливка и терпеливей сидельцы, тем уместнее кажется обсуждать Элладу, ибо дев и неверных жен там без счета, как и проходимцев мужей, впрочем. Петрович с Филоном бойко и со знанием дела обсуждали древнегреческие легенды, известнее и ярче которых нету в мире. Легко статься, что по ним можно разложить как тесьму на пальцах любую из современных историй, лишь подправив немного имена да сменив горы на город. Разговор обоих сильно увлек.
Время тащилось вслед за солнцем. С труб тянуло дымком. Облака разной величины залепили овцами небо. На порожней яблоневой ветке трепыхалась по сквозняку паутинка, переливаясь шелком. Там же что-то, похожее на воробья, кричало на округу благим матом, едва не лопаясь от натуги.
Петрович запустил в пичугу маринованным чесночным зубцом:
– Кыш!
На секунду воцарилась тишина. Птица не взяла в толк, зачем ей предложили чеснок, переменила с досады ветку и залилась снова.
– Всякая «стория – это пример! Это поучение нам! – Филон ткнул куда-то вверх указательным пальцем и погрузился в тяжелое молчание.
– Что там? Да Бог с ней, пусть трещит, – продолжил монах, проследив взглядом за чесночиной. – Петрович. Не! Всякая «стория – это не просто так. Вот хоть эта… З’лотое руно! Т’понимаешь, что оно есть? Оно есть си-и-имвол. И не зря! Корабль. Море. Харибда всякая и т’му подобное – эт» ж не просто так!
Петрович выловил в банке желтеющий костью патиссон и разлил по рюмкам алый напиток собственного приготовления, зревший в подполе в большой в спотелой бутыли. Уже дважды он ходил к ней, пополняя в кувшине, и теперь думал, как совладать с ногами, чтобы не уронить в третий. Настойка была коварна: ум, вроде бы, чистый, мысли ясны как никогда (если, конечно, наблюдать их изнутри, от первого, так сказать, лица), руки еще куда ни шло, а вот ноги не слушались совершенно.
– А что, П’трович, скор’ль гонец вернется? Д’ша требует пива… И вз’лкал зверь ненасытный! А, шут с ним – п’терплю…
– Он у нас м’льчонка об’зательный, но… слегка приплющенный, – успеем с наливкой обернуться, – ответствовал Обабков о посланном за пивом гонце.
Упустив последний эскапад высокоученого друга на счет греческого обычая, Петрович сделал неверный шаг и как-то сам собой оказался во власти земного притяжения. Причем самой тяжелой его частью теперь была голова, надежно прижатая собственным весом к гряде с капустой. Впервые в жизни он явственно узрел на кочане лицо и ужаснулся, вспоминая как годами брал урожай с заснеженной гряды. Звук перерубаемой кочерыжки бился о его череп набатом запоздалого раскаяния. Зеленое лицо же скорчилось в злой гримасе и, не равен час, сказало бы что-то грубое, если бы взгляд страдальца не переметнулся на крышу дома, остекленев от кошмара: прямо на него как во сне – медленно и неотвратимо – надвигался нос огромного корабля!
Петрович зажмурился, готовый провалиться в вечную тьму, пролететь искрой по коридору или узреть сонмы богов гневных и добрых, возвращающих его тлен в круговорот бытия. В религиозных вопросах он не был достаточно образован, чтобы избрать что-то определенное, и уповал более на опыт, надеясь не пострадать слишком сильно. «Жаль, пренебрег бритьем…» —пронеслось в его голове, но и эта чепуха скоро растворилась в шелесте волн и стуке вырываемых уключин.
Спасение из вод
– Эй! Старый дурень! Лови конец!
Где-то над головой молодой задиристый голос вырвал Петровича из гибельного оцепенения. Он открыл один глаз, ожидая увидеть страшное. Но страшного не случилось. Только глаз немедленно залило водой, от которой зверски щипало.
На языке было солоно. И соль эта, с йодной отдушкой, была вовсе не с патиссона. Петрович, несомненно, плескался в теплом море у борта какого-то судна, с которого на него орали сквозь грубый смех, бросив конец каната.
«Господи! Не дай меня в трату!» – вертелось в голове обезумевшего дачника вслед за великим воином[1 - Реплика Ивана Звягинцева: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, господи!..». М. Шолохов,«Они сражались за Родину».] – «Вот оно, значит, как там…». Но где «там» и вообще – додумать он не сумел. Мысли путались и толкались, не разобравшись меж собой, какая из них ко двору сейчас, а какой следует подождать с тылу. Петрович бы кричал, но вода заливала рот. Жизнь его, ушибленная о капустную гряду, нехотя засобиралась, чтобы наскоро пронестись пред угасающим взором. Уже блеснул под давно ушедшими лучами октябрятский алеющий значок; дело шло к первой любви – Соня, кажется, ее звали…
Не зря хлопотал старик Дарвин: теория его подтверждалась раз за разом. Человек разумный, рассудительно отступив, дал место пещерной обезьяне, мгновенно ухватившейся за канат – безыдейно, примитивно и крепко. Уже через минуту homo sapiens торжествующе водворился назад, когда сильные руки в два рывка вознесли страдальца на горячие доски палубы, выбрав его из волн словно обветшалого кальмара.
Первое, что узрел Петрович – голые могучие ноги, обступившие его словно диковинную находку. Сквозь рощу загорелых стволов взгляд уперся во что-то черное. Оно как раз совладало с собой и водрузилось на зад, оказавшись мокрым Филоном в рясе, утратившим клобук и мудрое выражение лица.
– Ох, братцы… – повалился монах на бок, кажется, угасая. Но очень скоро опять восстал, тряхнув промоченной сединой. – Спасли, спасли… Спаси вас Господь!
В отличие от Петровича, Филон страдал то ли от тяжкого похмелья, то ли от корабельной качки. Сам же Обабков был ни в одном глазу не замечен. Может, страх утопления выгнал все подчистую, а может, случилась какая метаморфоза, заворот времени, изгнавший поглощенные за беседой яды, добавив монаху вдвое… Он уперся в доски руками и легко поднялся, подивившись собственной резвости. «Это шок», – подумал Петрович. Затем вдруг покачнулся, поддакнул своему выводу, и совершенно утратил сознание.
Арго – и нет никаких сомнений, что был это именно он – беспечно бороздил голубые волны, оставляя за кормой пенный след. Чайки, эти крылатые вредители-санитары, непродолжительно преследовали корабль, но вскоре отстали, уступив место афалинам. Время – что-то среднее между полуднем и вечером, когда жара еще дышит тебе в лицо, а сумерки деликатно покашливают за плечом, давая о себе знать.
Петрович пришел в себя от духоты и резкого повторяющегося крика, будто кто-то научился считать до четырех и теперь делился своей радостью со всем миром. На лице страдальца лежал кусок грубой и плотной ткани, мешавшей ему дышать, которую неизвестный предусмотрительно накинул, оберегая кожу от солнечных ожогов. Выпростанная наружу рука горела, будто ее сунули в угли. Петрович, жалея руку, невольно почувствовал благодарность к спасителю и вновь поверил в человечество. Все его тело ломило по кусками пошевелиться ни то, что было трудно и неохота – какая-то часть сознания буквально возопила от одной этой мысли. Но встать ему все-таки пришлось.
Петрович сфокусировал взгляд и обомлел, отказываясь верить глазам: он стоял, шатаясь, на палубе шести неполных шагов меж бортов и полусотни в длину. По сторонам —блестящая чешуя воды, впереди— два ряда ритмично работающих гребцов, человек по двадцати в каждом. (Престранное слово «пентеконтера» ни о чем бы не сказало ему, даже знай Обабков, что находится прямиком на ней.) С рыжего смолистого носа коренастый и лысый человек в короткой хламиде хрипло давил свое «tetra!», задавая гребцам шаг.
– Ох, грехи мои тяжкие… – застонал Филон, цепляясь руками за борт.
Петрович обернулся. Монаха, кажется, тошнило. Вся его фигура выражала страдание. Черная истертая ряса гляделась на сверкающем новизной судне среди залитого солнцем моря возмутительно неуместно – как ворона на торте; всклокоченные седины – случайно оброненным в гостиной сором.
Оба они находились на тесной кормовой площадке, где присутствовал также и третий: могучего сложения юноша, одним загаром которого можно было сводить с ума истосковавшиеся по ласке гаремы. Он мягко нажимал на рычаг, правя курс корабля в открытом бескрайнем море. В его руках отполированная ладонями рукоять казалась символом высшей власти, приделанным богами к самой планете, которая подруливала в угоду уверенным движениям героя.
Юноша широко улыбнулся, обнажив ряды крупных жемчужно-белых зубов. Одежды на нем почти не было и мышцы перекатывались на солнце под блестящей кожей. Кое-где кожу подсекал резаный белый шрам. Чувствовалось, что болтающийся на поясе незнакомца короткий меч легко и быстро шел в дело, когда было надо. Петрович, которому и без того было не ахти как, мгновенно почувствовал себя старым полупридавленным червем, ждущем, когда на него наступят, окончательно превратив в ничто.
– Алло! – приветствовал черноволосый красавец старца. – Как ты?! Уже хорошо? Да! – заверил юноша сам себя, не дожидаясь ответа растерявшегося Петровича.
– Да? – вопросил он также перегнувшегося через борт Филона, на этот раз не выражая большой уверенности.
Не поспоришь: глядя на содрогающуюся фигуру монаха даже отъявленный оптимист не выдавил бы из себя слова хорошо. В крайнем случае, сносно или терпимо. На самом деле Филону было отвратительно ужасно паршиво.
Небо уже густело с востока, наползая тенью на пологую грудь моря. Справа по борту, нарушая однообразие, вода вскипала на рифах, хотя суши вовсе не было видно. Арго обогнул опасное место по долгой и пологой дуге. Ничего не скажешь: корабль был сложен на славу и резал гладь как горячий нож режет известно что.
Петрович мало по малу начинал свыкаться с мыслью о том, что странный сон затянулся и никакими щипками выйти из него не удается. Для белой горячки оснований он также не находил: при всем своем замешанном на философии жизнелюбии, пенсионер-заводчанин никогда не злоупотреблял. Мог он, забывшись в пылу, опрокинуть лишнего. Мог. Но редко, под хорошую закуску и с приличным всегда человеком. А приличными считал Петрович не более четырех в своей жизни, двое из которых находились уже за чертой суеты сует, один был по его меркам молод и заезжал редко, а четвертый, самый любезный друг ныне находился рядом на этой чертовой галере, кренясь от мути за борт.
«Уж не помер ли я?» – пронеслось в голове Петровича. И что тут скажешь? —никогда нельзя быть вполне уверенным! Однако же хитер был француз, шепнувший когда-то, тихо так, невзначай как бы – да так, что и поныне ничего лучше не скажешь: раз я мыслю, какой же я, простите, покойник? Вот и это изящное в своей полноте объяснение происходящих чудес пришлось отбросить в угоду логике: жизнь Петровича, иногда косая и ломкая, иногда не лишенная благородства, продолжалась. И продолжалась в таком экзотическом виде, на измышление которого он бы сам не сподобился ни при каких угарах.
– Donde esta la maldita isla?![2 - Где этот чертов остров? (исп.)] – другой молодой человек, пониже первого, скуластый, черный как эбеновое дерево, с короткими смолисто-аспидными бородкой и волосами каракулем поднялся из прохода между гребцами. – Morir del aburrimiento![3 - Сдохнуть со скуки! (исп.)]
Слова прозвучали непривычно, но Петрович их понял. В этом была еще одна загадка нового положения вещей: Обабков, заграничным лингвам не обученный, понимал говоримое и даже сам, кажется, мыслил на каком-то чуждом для себя языке. То и дело в сознание прорывались обрывки текучих ео и твердые как стекло исто.
– Ну и хрен с ним! – в тон молодчику заявил он, почувствовав прилив бодрости. – Пусть снится, что снится. Филон! Ты там вовсе увял, что ль?
Петрович по-свойски отстранил подошедшего вплотную испанца, в глазах которого вспыхнул гнев. Но не дело человеку рассудительному и к тому в летах обращать внимание на всякую зримую во сне ерунду. К слову скажем, вплотную относилось тут ко многому – на этом вытянутом вдоль густонаселенном островке. Теснота на палубе царила необыкновенная. Из трюма несло протухшим, отравляя свежесть окрепшего к ночи бриза. Ряды потных гребцов, сами понимаете… Где-то под ногами за досками глухо блеяла овца. Кажется, ей вторили куры. Задушенно проорал петух, возвещая из темноты закат. Сущий ковчег.
Тут же произошло странное: один из гребцов вдруг молча встал с места ис каменным лицом маханул за борт… Плеск полусотни весел не дал разобрать, но Петрович был уверен, что тело плюхнулось в воду. Однако, через минуту-другую мнимый самоубийца проворно взошел на борт с выражением понятного каждому облегчения. Только теперь Петрович различил там веревочные петли, по которым и карабкался подлец.
– Боже! Боже! Куда Ты занес меня?! – возопил он несколько театрально, обращаясь к гаснущему солнцу. На пороге сознания мелькнуло, что-то невразумительное: светило неслось по небу на громадной колеснице с балясинами. Обабков моргнул, стерев чудное видение, и все стало привычным как всегда было.
Несколько гребцов оглянулись на чудака. А один или два приложили ко лбу натруженную ладонь, вроде бы кланяясь между дел светилу. Гелиосу всегда и с энтузиазмом поклонялись. Не удивимся и мы, узнав, что некоторые из экипажа посчитали Петровича с Филоном жрецами дневного и ночного светил, тем паче их одеяния наводили на эту мысль: «жрец» светила дневного был упакован в льняную бледно-рыжую пару от «Большевички», а ночного, известно, от ног до загривка черен, одетый в рясу.
Монах отвернулся от борта и придвинул к Петровичу бледное будто отделанное воском лицо. Закат играл на его лбу и высоких скулах, покрытых мученической испариной.
– Будет тебе, Петрович, – не смотря на немочь, голос Филона, что не хуже глаз выдает настрой, был крепок. – Не жги себе сердца. По грехам! По делам нашим! Смирись, Петрович! Мы на корабле иллинейском!
Не будьте слишком строги к автору, не лишенному, в сущности, добродетели, но, в угоду повествованию, вынужденному соблюдать известную скрупулезность подачи. Натренированный годами песнопений Филон, отрывая слова кусками от души, звучал как труба Апокалипсиса. Последнее восклицание прокатилось над морем так, что медузы, висящие под кормой, поджали стрекала, ощутив близкий конец всего. В душном трюме замолкли куры.
Теперь уже вся команда смотрела на выловленных в пучине пришельцев, отложив весла. По общему разумению, шло к тому, что в этом деле не обошлось без богов, известных своим азартом. В те времена люди еще жили с ними тесно, не огрубев духом в угоду паровым котлам и мортирам[4 - Каждый изобретенный человечеством механизм на шаг отдалял нас от божественных игрищ, а известная бомба и вовсе прервала нить, оставив наедине с холодной вселенной, полной мигающих невпопад звезд. Остается ждать, когда все изученное забудется, а изобретенное сломается окончательно. Но это уже совсем другая история.].
Тут что-то глухо ударило в днище. Арго качнуло. По палубе прокатилась расписная амфора, изображая покадрово оголяющуюся в танце деву. Филон, вздрогнув, словно пришел в себя и прекратил оглашать басом водную пустынь. Все замерли, ожидая, что еще выкинет «лунный жрец» – новое его имя, которое уже разнеслось шепотком меж гребцами.
Чудо не заставило себя ждать: кряжистый лысый парень, усевшийся на носу, заблажил не своим голосом, показывая рукой за борт. Там, в сотне локтей от судна, над поверхностью, не взбивая волн, прокатилась огромная серая спина и ушла бесследно в пучину. Многие вспомнили Посейдона. И только Петрович прошептал под нос: «Ни хрена себе… Кит».
– Тьфу! Нечистая… – кит не восхитил монаха. – Где тут отхожее, вьюнош? – обратился он к Ясону, подбирая рясу с боков.
Солнце поцеловало морскую кромку и разлилось понизу как желток. Над Элладой рождалась ночь.
Новые аргонавты
Через пару дней, ужиная на корме и вполне обвыкшись, Петрович с удивлением осмыслял произошедшие в его судьбе катаклизмы. Познания заморских стран, да еще древних эпох у дачника были не из самых. Первое, что приходило на ум при слове заграничный – фарцовые джинсы у ГУМа времен XXVII съезда КПСС, а поверх, из новейшей уже истории, светлый образ кооперативного таджика, отряженного до падения в капустную грядку к ларьку за пивом. «И калитку же я не притворил…» – додумал хозяйственный диссидент эпохи ограниченной вседозволенности.
На бочонке, что был за место стола, в мутном рассоле в плошке плавала одинокая оливка. Петрович брезгливо посмотрел на нее, чувствуя подымающуюся изжогу. Ни тебе огурчика, ни опенка! Одни скользкие оливки да какая-то дрянь в виноградных листьях. Хлеб черствый. Вода… Лучше не вспоминать.
– А хоть бы и так, Филон. Хоть бы так. Что у них с визовым режимом, а? И вообще? Вот они, вроде, спасли нас, кормят. А вдруг мы у них по закону военнопленные? Читал я где-то, кастрировали их в Риме…
Ему хотелось спросить о многом, но для хорошего вопроса, говорят, нужно знать половину ответа. С местными он решил вести себя осторожно, а то еще заподозрят, что совсем чужак – поэтому вопросами изводил монаха, коим, известно, не чужда книжность.
Петрович, почитай, ничего не знал об Элладе – в пределах хорошо забытой школьной программы – так что вопрос крутился на губе, не высказываясь. За границу шести соток он переступал в последние годы, прямо сказать, не часто. Дальние путешествия из прежней жизни истерлись на манер бабушкиного половика, и все больше походили на гаражные соседские пересуды. Да ни к месту еще впутывалась картинка из «Вокруг света»: по зеленой заросшей осокой кочке волочится глупый узкомордый кайман; с ветки на него глядит большая коричневая птица (тоже не из профессорских дочек), и клюв у нее кинжалом… Кто кого сожрет? Вот и все.
Познания же Филона об окружающем мире были широки, опирались на труды разнообразные, но, за древностью, весьма сомнительные в толковании. О географии, например, он судил по маршрутам библейских царей, из которых наиболее уважал Моисея – за упорство и боевую смекалку.
– Строго у них там – не забалуешь. Да… Слышь, отрок? – обратился монах к рулевому, сменившему на часок Ясона. – Слышь?!
Юноша выпалил что-то на тарабарском. Петровичу послышалось «йес, йес… но пассаран… хэндехох… гвозди». Размышлять над сказанным не хотелось.
– Это хорошо, – Филон одобрительно кивнул.– Морока с глухонемыми… Когда пристань? До Крыма далеко?
Юноша нехорошо посмотрел на монаха, будто у того было что-то с лицом. В этот момент лукавый испанец кинул на бочонок вареное овечье копыто в шерсти. Злопамятствовал, знамо, за толчок в грудь. Стоящие вблизи аргонавты гоготом рассмеялись шутке.