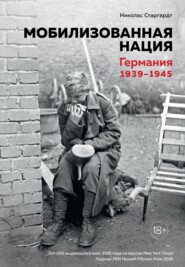скачать книгу бесплатно
Мобилизованная нация. Германия 1939–1945
Николас Старгардт
Книга оксфордского профессора, одного из самых авторитетных исследователей нацизма, рассказывает о Второй мировой войне с точки зрения граждан Германии. В ее основу легли частные письма и дневники времен войны. В хронологическом порядке, с 1939 по 1945 г., изложено, как немцы восприняли начало войны, какие у них были надежды и страхи и как менялись их мысли и чувства в моменты побед и поражений, а также после разгрома нацизма. Автор подробно останавливается на том, как граждане воюющей страны воспринимали репрессии и жестокости на завоеванных территориях и в самой Германии, как относились к покоренным народам, к евреям и к «окончательному решению еврейского вопроса», а также на сложных взаимоотношениях между государством и церковью. Много места уделено теме массированной нацистской пропаганды. Немалый интерес представляют подробности повседневной жизни Германии на фронте и в тылу: нехватка продовольствия и промтоваров, карточная система, бомбежки, эвакуация, взаимоотношения с иностранными рабочими, проблемы детей и подростков. Занимая совершенно очевидную антинацистскую позицию, Николас Старгардт сознательно избегает оценок, стремясь дать беспристрастное, подтвержденное документами описание.
«Это книга о долгой войне. Шаг за шагом на ее страницах мы проследим за изменениями немецкого общества и за тем, как почти незримо, но необратимо отдельные люди приспосабливались к войне, течение которой, как они с каждым днем чувствовали все больше, перестало поддаваться какому бы то ни было влиянию с их стороны. Мы проследим за сменой ожиданий, колебаниями надежд и опасений личностей, проходивших через формировавшие их события. Истории этих людей дают нам эмоциональное мерило пережитого и служат нравственным барометром общества, вступившего на путь саморазрушения». (Николас Старгардт)
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Николас Старгардт
Мобилизованная нация: Германия 1939–1945
Шаг за шагом автор демонстрирует, как менялось отношение населения Германии ко Второй мировой войне в ходе развертывания конфликта и побуждает читателей переосмыслить те вещи, которые казались знакомыми. Объемный исторический труд, наводящий на глубокие размышления.
Марк Роузман, профессор истории, Индианский университет в Блумингтоне
Богатый и впечатляющий пример этического осмысления проблемы с сохранением непредвзятости и критичности. Автор распутывает паутину пропаганды и морализма, чтобы дать нам возможность взглянуть на военный конфликт глазами немцев – как нацистов, так и тех, кто не поддерживал Гитлера. Нам словно выпадает шанс пережить эпизоды войны вместе с современниками тех событий. Немалый риск – описывать историю этой невероятно жестокой и разрушительной войны будто изнутри, через призму чужого восприятия.
Джейн Каплан, почетный профессор, колледж Святого Антония в Оксфорде
Выдающаяся книга выдающегося историка. На основе вдумчивого исследования частной переписки, секретных документов, пропагандистских материалов и других источников показано, что именно и в какой момент узнавали немецкие граждане – как солдаты, так и мирное население – о ходе войны, что они думали о ней, и как режим, всегда принимавший во внимание настроения людей, видоизменялся в зависимости от этих настроений. Шедевр исторического описания, органично сочетающий взгляд с отдаленной перспективы и частную микроисторию этого катастрофического периода XX века.
Ян Томаш Гросс, историк, социолог и политолог, профессор Новой истории, Принстонский университет, автор книги «Соседи. История уничтожения еврейского местечка»
Лавируя между рифами чудовищного насилия войны и отмелями невероятной сложности отдельных судеб, между вызовами, встающими перед простыми людьми, и безжалостностью неподвластной им военной машины, автор развертывает повествование, основанное на богатейшем материале. Это не просто рассказ или история, это настоящий эпос.
Джефф Эли, профессор истории и германистики, Мичиганский университет
В этой книге словно мощным прожектором высвечивается проблема национального самосознания. В ней объясняется – что мало кому удавалось, – почему немецкий народ продолжал драться до самого конца.
Шелдон Гэрон, профессор японистики, Принстонский университет
Потрясающая книга. В ней блестяще исследуются дневники, письма и другие ранее неизвестные источники и содержится яркое и тонкое понимание мотивации простых немцев, сражавшихся в самой ужасной войне всех времен.
Ян Кершоу, историк, специалист по истории нацизма, член Британской академии, автор книг «Гитлер» и «Конец Германии Гитлера. Агония и гибель»
Прекрасно написанная и убедительно аргументированная книга. Необходимое чтение.
Саул Фридлендер, израильский историк, лауреат Пулитцеровской премии, специалист по истории Холокоста, автор книги «Нацистская Германия и евреи»
Детальные портреты немецких мужчин и женщин, своего рода отчет немцев о личном опыте войны.
Times Literary Supplement
Превосходное и значимое исследование на тему Второй мировой войны.
Spectator
Неожиданные прозрения как в отношении человечности, так и поворота к варварству.
Economist
Яркая история повседневной жизни отражает сложные чувства простых немцев при нацистском режиме… Превосходное исследование.
Guardian
Масштабное социальное полотно.
New York Review of Books
Сложный портрет нации, охваченной патриотизмом и негодованием, взволнованной ранними военными победами и гордящейся боевыми способностями вермахта.
Foreign Affairs
© Nicholas Stargardt, 2015
© Колин А. З., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020
КоЛибри
Карты
Предисловие
Представленная вниманию читателя книга венчает временной отрезок продолжительностью более двадцати лет, в течение которых я старался понять опыт и переживания людей, живших в Германии и под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Книгу эту, признаюсь, я вообще изначально писать не собирался. В 2005 г. я клялся себе и другим, что, едва успев закончить «Свидетели войны: жизнь детей в нацистской Германии» (Witnesses of War: Children’s Lives under the Nazis), никогда не вернусь к теме детей, Холокоста и нацистской Германии. Работа начиналась как небольшой очерк о том, за что же все-таки сражались немцы; меня одолевало стремление кое-что сказать по этому поводу. Позднее, на протяжении академического отпуска в Свободном университете Берлина в 2006–2007 гг., эссе зажило своей жизнью и стало перерастать в нечто более крупное.
Между двумя книгами явно существует преемственность. Наиболее очевидное сходство – мой интерес к изучению субъективного в истории общества на примере письменных документов эпохи и попытка понять механизм восприятия людьми разворачивавшихся вокруг них событий; ведь в таких случаях никто не знает наперед, как все закончится. Но нельзя не заметить и столь же явных различий. В книге «Свидетели войны» я стремился относиться к детям как к самостоятельным игрокам на общественном поле, к тому же пытаясь совместить несовместимое – точки зрения детей, которых война и расизм разделили на победителей и побежденных. Книга, которую вы держите в руках, выявляет иную проблему: как докопаться до страхов и надежд общества, откуда происходили победители и преступники, чтобы понять, как немцы оправдывали войну для самих себя. Чтобы заострить внимание на вопросе, я постарался «настроить объектив» разом в ширину и в глубину, для первого использовав «крупный» план, основываясь на информации из подслушанного в разговорах людей осведомителями или выявленного военной цензурой при перлюстрации писем; для второго – обратившись к выбранным мной индивидам, представителям разных слоев социума, наблюдая на протяжении значительного периода времени за изменением их чаяний и планов по мере течения войны и приобретаемого с нею опыта. При таком подходе голоса жертв звучат тише, чем в «Свидетелях войны», но не умолкают совсем; вместе с тем без такого контрастного фона невозможно прочувствовать, насколько различно – и часто эгоистически – немцы выстраивали свое ограниченное понимание войны.
Одной из главных составляющих данной книги выступают собрания писем друг к другу возлюбленных, близких друзей, родителей и детей, ну и, конечно, супружеских пар. Подобными источниками пользовались многие историки, но зачастую с иным результатом. К примеру, Библиотека Новой истории (Bibliothek f?r Zeitgeschichte) в Штутгарте располагает знаменитой коллекцией примерно из 25 000 писем, собранных Рейнгольдом Штерцом. К сожалению, письма каталогизированы по хронологии, а не по авторам, а потому наглядно показывают срез субъективных мнений в конкретные моменты войны, но не дают возможности проследить цепочку – установить, насколько твердо написавший их человек держался своих убеждений на более или менее продолжительном временном отрезке. При отборе я взял на вооружение другой подход. Мне важен обмен корреспонденцией продолжительностью как минимум в несколько лет, что дает возможность наблюдать процесс изменения и развития личных отношений между людьми – да и самих мотивов, заставлявших их браться за перо, – по мере течения событий. Данный метод позволяет воссоздать более точную картину – посмотреть на происходящее через ту самую призму, сквозь которую отдельные индивиды видели и оценивали самые важные его моменты.
Нет-нет, этот подход к исследованиям придуман не мной. Выработали его историки Первой мировой войны начиная с 1990-х гг., и тут я многому научился у Кристы Хэммерле. Особенно повезло мне с возможностью получить доступ к личному архиву Вальтера Кемповски еще при его жизни; и я никогда не забуду теплый прием, оказанный мне Вальтером и Хильдегард Кемповски у них дома в Натуме. Сам архив хранится теперь в Академии художеств в Берлине. В собрании дневниковых записей (Deuts- ches Tagebucharchiv) в Эммендингене мне очень помог Герхард Зайтц, как и Ирина Ренц – в Библиотеке Новой истории в Штутгарте. В Берлине ценными материалами снабжали меня Андреас Михаэлис из Немецкого исторического музея, Файт Дидцунайт и Томас Яндер из Архива полевой почты (Feldpostarchiv) при Музее связи и Государственного архива; как и Христиане Боцет из Военного архива Государственного архива (Bundesarchiv-Milit?rarchiv) во Фрайбурге. Клаус Баум и Конрад Шульц из архива свидетелей Иеговы в Германии в Зельтерс-Таунус предоставили мне экземпляры прощальных писем, написанных свидетелями Иеговы перед казнью за отказ от военной службы, а Александр фон Платон из Института истории и биографии в Люденшайде познакомил меня с обширной коллекцией из начала 1950-х гг., где содержатся воспоминания школьников времен войны в Архиве Вильгельма Ройсслера (Wilhelm Roessler-Archiv). Я очень благодарен Ли Герхальтеру и Гюнтеру Мюллеру из Венского университета за материалы из Документации биографических записей (Dokumentation lebensgeschichtliche Aufzeichungen) и Коллекции женского наследия (Sammlung Frauennachl?sse). В особом долгу я перед Жаком Шумахером за его неистощимое стремление помогать на любом этапе моих исследований. Финансовую поддержку оказали мне Фонд Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Foundation) и «Леверхьюлм-Траст» (Leverhulme Trust), каковым я тоже очень и очень признателен.
Наделанные мною на протяжении такого продолжительного периода интеллектуальные долги слишком велики, чтобы суметь поблагодарить всех, кому я обязан. В 2006–2007 гг. в Берлине Юрген Коцка показал себя прекрасным хозяином, да и вообще не сосчитать людей, сделавших мое пребывание в Германии памятным и продуктивным. Многие друзья и коллеги подпитывали во мне волю к работе, делились идеями и находками, очень живо показав, что история – это продукт коллективного творчества. Среди моих замечательных коллег на историческом факультете Оксфорда и колледжа Магдалины я особенно благодарен Полу Беттсу, Лоренсу Броклиссу, Джейн Каплан, Мартину Конуэю, Роберту Гилдеа, Рут Харрис, Мэтту Хоулброку, Джейн Хэмфрис, Джону Найтингейлу, Шону Пули и Крису Уикэму.
В издательстве «Бодли-Хэд» (Bodley Head) мне очень повезло сотрудничать с Йоргом Хенсгеном, Уиллом Салкином и, после выхода Уилла на пенсию, со Стюартом Уильямсом. С невероятной энергией и проницательным умом Лара Хеймерт ввела меня в мир фундаментальных изданий проекта Basic Books. Их приверженность к публикации книг, в которые они верили, действовала невероятно подбадривающе и порой вселяла в меня так необходимую для продолжения изысканий уверенность. Лара и Йорг отлично дополняли друг друга как редакторы, причем Йорг взял на себя тяжкую обязанность редактировать текст страница за страницей. Работать с ними было сплошным удовольствием, и я благодарен всем, включая Клэр Александер и Салли Райли из Aitken-Alexander, которые оставались моими феями-крестными, делясь своей мудростью и воодушевляя меня на протяжении работы. Мне очень и очень повезло с ними.
Без интеллектуальной щедрости и поддержки многих друзей эта книга, по всей вероятности, так никогда бы и не появилась на свет. Пол Беттс, Том Броуди, Штефан Людвиг Хоффманн, Иэн Кершоу, Марк Роузман, Жак Шумахер, Джон Уотерлоу и Бернд Вайсброд – все они откладывали свою работу, чтобы по моей просьбе прочитать рукопись целиком. Я крайне признателен всем им и каждому в отдельности за бесценные советы, за информацию из их собственных исследований и за то, что оберегли меня по меньшей мере от некоторых грубейших исторических ошибок. Рут Харрис и Линдал Ропер прочитали весь текст дважды и оставили на нем неизгладимый след. На каждом из этапов проекта Линдал обсуждала со мной ключевые идеи в ходе попыток сформулировать их наилучшим образом. Никаких слов не хватит для выражения моей благодарности.
Николас Старгардт
Оксфорд, 3 июня 2015 г.
Действующие лица
(в порядке появления на страницах повествования)
Эрнст Гукинг, крестьянский сын из Гессена, профессиональный солдат, пехотинец, и Ирен Райц, флористка из Лаутербаха (Гессен); поженились во время войны.
Вильм Хозенфельд, католик, ветеран Первой мировой и сельский учитель из Талау в Гессене, служил в немецком гарнизоне в Варшаве; его жена Аннеми, певица и протестантка, перешедшая в католичество; у них пятеро детей.
Йохен Клеппер, писатель из Николасзее (Берлин), женатый на Иоганне, обратившейся в протестантизм еврейке с двумя дочерями.
Лизелотта Пурпер, фотокорреспондент из Берлина, и Курт Оргель, юрист из Гамбурга, офицер артиллерии; они поженились во время войны.
Виктор Клемперер, еврей-протестант, ветеран Первой мировой войны и ученый, и его жена Ева, в прошлом концертирующая пианистка.
Август Тёппервин, ветеран Первой мировой войны и преподаватель гимназии из Золингена, офицер, ответственный за военнопленных, и его жена Маргаретe.
Фриц Пробст, столяр из Тюрингии, военнослужащий строительного батальона, и его жена Хильдегарда; у них трое несовершеннолетних детей.
Гельмут Паулюс, сын врача из Пфорцхайма и старший из четырех детей (остальные трое подросткового и юношеского возраста), пехотинец.
Ганс Альбринг и Ойген Альтрогге, оба из Гельзенкирхен-Бюра близ Мюнстера, друзья и члены движения католической молодежи; связист и пехотинец.
Вильгельм Мольденхауер, лавочник из Нордштеммена близ Ганновера, радист.
Марианна Штраус, еврейка, воспитательница детского сада из Эссена.
Урсула фон Кардорфф, журналистка из Берлина.
Петер Штёльтен из Целендорфа в Берлине, вестовой и (позднее) командир танкового подразделения.
Лиза де Бор, журналистка из Марбурга, замужем за Вольфом; трое взрослых детей: Моника, Антон и Ганс.
Вилли Резе, стажер-делопроизводитель в банке Дуисбурга, пехотинец.
Мария Кундера, работница железнодорожной станции Михельбойерн близ Вены, и Ганс Г., сын железнодорожника, парашютист-десантник.
Введение
Вторая мировая война заслуживает права называться Немецкой войной как никакая другая. Нацистский режим превратил развязанный им конфликт в наиболее чудовищную бойню во всей европейской истории, прибегая к методам геноцида задолго до строительства первой газовой камеры на территории оккупированной Польши. Третий рейх уникален и тем, что потерпел полное поражение в 1945 г., к тому моменту до дна истощив моральные и физические ресурсы немецкого общества. Даже японцам не довелось сражаться у ворот Императорского дворца в Токио, а вот немцы дрались возле Имперской канцелярии в Берлине. Для ведения войны на подобном уровне нацистам пришлось добиться от людей такой общественной и личной мобилизации, какая, несмотря на все старания, в предвоенный период им и не снилась. И все же спустя семьдесят лет, невзирая на горы книг о причинах войны, ее ходе и творившихся тогда зверствах, мы до сих пор не знаем, за что же, по разумению самих немцев, они сражались и каким образом они смогли продолжать войну – вплоть до самого конца. Представленная вниманию читателя книга рассказывает о том, что переживал германский народ и что он перенес во время той войны[1 - Переосмысление последней фазы войны: Kershaw, The End; Geyer, ‘Endkampf 1918 and 1945’ // L?dtke and Weisbrod (eds.). No Man’s Land of Violence, 35–67; Bessel, ‘The shock of violence’ in ibid., No Man’s Land of Violence, 69–99, and Bessel, Germany in 1945.].
Казалось бы, Вторая мировая должна была покинуть общественное сознание с течением лет и по мере угасания переживших ее поколений. Но происходит совсем наоборот. И особенно в Германии, где за последние пятнадцать лет появилось море кинолент и документальных фильмов, прошло множество выставок, увидела свет масса книг по данной теме. Академическое и популярное освещение вопроса имеет тенденцию типичного раскола во мнениях – склонность изображать немцев либо как жертв, либо как преступников. За последнее десятилетие громче звучит именно тема жертвы, поскольку авторы делают упор на воспоминаниях гражданских лиц, переживших огненные бури, разыгравшиеся в результате бомбардировок немецких городов авиацией Великобритании и США; на страданиях немецких беженцев, пытавшихся спастись перед лицом наступающей Красной армии; на убийствах и изнасилованиях, выпавших на долю тех, кто не успел убежать. Многие из пожилых немцев воскрешают в памяти самые болезненные картины прошлого просто из желания быть услышанными – рассказать и оставить это позади раз и навсегда. СМИ же превратили страдания мирного населения во времена войны в дело сегодняшнего дня, сосредоточивая внимание на бессонных ночах, ужасе перед налетами и непрекращающихся ночных кошмарах. Возникают общества так называемых детей войны, к месту и не к месту звучат термины вроде «травма» и «коллективная травма», призванные описывать подобного рода переживания. Но разговоры о травме демонстрируют тенденцию подчеркивать пассивность и невиновность перенесших их людей, и это вызывает сильный моральный резонанс. Так, в 1980-х и 1990-х гг. под понятие «коллективная травма» подогнали и воспоминания уцелевших после Холокоста, что сулит жертвам «получение прав» – своего рода политическое признание[2 - О бомбежках см.: Groehler, Bombenkrieg gegen Deutschland; Friedrich, Der Brand; об изнасилованиях: Sander and Johr (eds.). Befreier und Befreite; Beevor, Berlin; Jacobs, Freiwild; опыт и переживания женщин во время войны: D?rr, ‘Wer die Zeit nicht miterlebt hat…’ 1–3; бегство: Grass, Im Krebsgang; e. g. Sch?n, Pommern auf der Flucht 1945; беседы с немецкими детьми: Lorenz, Kriegskinder; Bode, Die vergessene Generation; Schulz et al., S?hne ohne V?ter; критические обсуждения: Kettenacker (ed.). Ein Volk von Opfern?; Wierling, ‘“Kriegskinder” // Seegers and Reulecke (eds.). Die ‘Generation der Kriegskinder’, 141–155; Stargardt, Witnesses of War: introduction; Niven (ed.). Germans as Victims; Fritzsche, ‘Volkst?mliche Erinnerung’ // Jarausch and Sabrow (eds.). Verletztes Ged?chtnis, 75–97.].
Только крайне правые маргиналы, выходящие каждый февраль на митинги в память бомбардировки Дрездена в 1945 г. с плакатами «бомбовый Холокост», уравнивают беды мирного населения Германии со страданиями жертв нацистской политики уничтожения. Но даже такого рода провокации далеки от несгибаемого национализма, подогреваемого в 1950-х гг. в Западной Германии, где немецких солдат воспевали как героев за их «самопожертвование», тогда как их «зверства» списывали на убежденных нацистов, прежде всего эсэсовцев. Удобный штамп «холодной войны» о «хорошем» вермахте и «плохих» СС, очень пригодившийся для перевооружения Западной Германии и принятия ее как полноценного члена в НАТО в середине 1950-х гг., не выдерживает критики в середине 1990-х гг., благодаря – не в последнюю очередь – передвижной выставке «Преступления вермахта», где представлены фотографии публичных казней через повешение и массовых расстрелов с участием простых солдат. Широкий показ личных снимков, которые военнослужащие германских вооруженных сил носили в карманах формы вместе с фотографиями своих детей и жен, вызвал сильнейший отклик, особенно в областях Австрии или бывшей Восточной Германии, где подобные темы до 1990-х гг., как правило, не поднимались. Однако нельзя сказать, будто не последовало обратной реакции, и, когда фокус дискуссии сменился в направлении немецких женщин и детей, ставших жертвами бомбардировок британской и американской авиации или насилия со стороны советских солдат, у некоторых комментаторов возникал страх перед возвратом к превалировавшей в 1950-е гг. практике состязания в том, кто же больше виноват[3 - Joel, The Dresden Firebombing; Niven, Germans as Victims //troduction; о 1950-х гг.: Moeller, War Stories; Schissler (ed.). The Miracle Years; Gassert and Steinweis (eds.). Coping with the Nazi Past; 1995 Wehrmacht exhibition and debate, Heer and Naumann (eds.). Vernichtungskrieg; Hartmann et al., Verbrechen der Wehrmacht; историческое исследование: Streit, Keine Kameraden (1978); R?mer, Der Kommissarbefehl (2008).].
Вместо этого два подпитываемых эмоциями сюжета войны следовали параллельными путями. Несмотря на принятие моральной ответственности, выразившееся в решении о создании крупного памятника Холокоста в центре Берлина, раскол во мнениях о том времени поразителен: кто же немцы, жертвы или преступники? Следя за публичной самокритикой, развернувшейся в Германии в 2005 г., в канун 60-й годовщины окончания Второй мировой войны, я убедился, что необходимость вывести и озвучить поучительные уроки из давних событий сегодня заставила ученых, а равно и СМИ обойти вниманием один из императивов истории, обязывающий нас в первую очередь и прежде всего хорошо понимать прошлое. Самое главное – историки не задавались одним естественным, казалось, вопросом: о чем говорили немцы и что думали они об их роли в то время? Например, до какой степени они выражали готовность обсуждать свое участие в войне на стороне проводившего геноцид режима? И насколько сделанные ими выводы меняли их видение войны в целом?
Кто-то предположит, будто подобные речи в полицейском государстве, да к тому же в военное время, попросту невозможны. В действительности уже летом и осенью 1943 г. немцы начали открыто говорить об убийствах евреев, увязывая их уничтожение с бомбардировками авиацией союзников мирного населения в Германии. Скажем, в Гамбурге отмечалось, «что простые люди, представители среднего класса и прочие граждане между собой, а также и при собрании людей постоянно высказываются, будто налеты есть возмездие за то, как мы обходимся с евреями». В баварском Швайнфурте народ говорил то же самое: «Ужасные налеты есть следствие мер, принимаемых против евреев». После второй бомбардировки города ВВС США в октябре 1943 г. жители открыто жаловались: «Если бы мы не поступали так плохо с евреями, нам бы не пришлось выносить эти ужасные налеты». К тому моменту о подобных настроениях соответствующие службы доносили властям в Берлине не только из крупных немецких городов, но и из «тихих заводей» – из глубинки, почти или вовсе не знавшей бомбежек[4 - Hauschild-Thiessen (ed.). Die Hamburger Katastrophe vom Sommer 1943, 230: Lothar de la Camp, циркулярное письмо, 28 July 1943; Kulka and J?ckel (eds.). Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, 3693, SD Au?enstelle Schweinfurt, o.D. [1944] and 3661, NSDAP Kreisschulungsamt Rothenburg/T, 22 Oct. 1943; Stargardt, ‘Speaking in public about the murder of the Jews’ // Wiese and Betts (eds.). Years of Persecution, 133–155.].
Впервые услышав об этом, я испытал глубокое удивление, хотя и не сомневался уже, что послевоенные заявления немцев, будто они ничего не знали и ничего не делали, – не более чем удобная отговорка. Существующие научные данные показывали, что в Германии военной поры везде ходили разговоры о геноциде. Однако прежде я, как и другие историки, предполагал, будто подобная информация распространялась в основном конфиденциально в кругу близких друзей и семьи, выходя за эти рамки только как слухи. Как мог Холокост сделаться предметом всеобщего обсуждения? Более того, подобные дискуссии подвергались отслеживанию и анализу со стороны тех самых сотрудников тайной полиции, служивших власти, каковая и занималась организацией депортации и уничтожения евреев на протяжении двух предшествовавших лет. Что еще более невероятно, всего через несколько месяцев после поступления этих сведений глава полиции и СС Генрих Гиммлер продолжал утверждать перед собранием других главарей Третьего рейха, что только они ответственны за искоренение европейского еврейства, и заявлял: «Мы унесем эту тайну с собой в могилу». Как же случилось, что столь охраняемая тайна стала явной? На протяжении последних двадцати пяти лет Холокост вышел на центральные позиции в нашем взгляде на нацистский период и Вторую мировую в целом. Однако, по меркам истории, произошло это совсем недавно, а потому мы никак не можем на данном основании делать выводы о том, как же именно видели свою роль немцы в ту пору[5 - Kershaw, ‘German popular opinion’ // Paucker (ed.). Die Juden im nationalsozialistischen Deutschland, 365–386; Bankier, The Germans and the Final Solution; Himmler, Die Geheimreden, 171: речь в Познани, 6 Oct. 1943; Confino, Foundational Pasts.].
18 ноября 1943 г. капитан доктор Август Тёппервин фиксировал в дневнике услышанные им «отвратительные, но, по-видимому, верные подробности о том, как мы уничтожали евреев (от детей до стариков) в Литве!». Он отмечал слухи о погромах и раньше, уже в 1939 и 1940 гг., но не на таком уровне. На сей раз Тёппервин дерзнул рассмотреть страшные факты с точки зрения морали, задаваясь вопросом, кого же законно убивать на войне. Он расширил список от неприятельских солдат и партизан, действующих в тылу у немецких войск, до ограниченных коллективных актов возмездия по отношению к потворствовавшим им гражданским лицам, но даже и тогда был вынужден признать, что совершаемое в отношении евреев есть вещи совсем иного порядка: «Мы не просто уничтожаем воюющих с нами евреев, мы в буквальном смысле стремимся вырезать этот народ под корень как таковой!»[6 - Orlowski and Schneider (eds.). ‘Erschie?en will ich nicht!’, 247: 18 Nov. 1943.]
Глубоко верующий протестант и консерватор, учитель по профессии, Август Тёппервин с самого начала испытывал сомнения в отношении мотивов и методов войны, беспокоясь из-за жестокости политики Гитлера. Похоже, он персонифицирует тот моральный настрой и политическую отчужденность от нацизма, находившие выражение не в каком-то откровенном сопротивлении системе, но в определенной степени неприятия и во «внутреннем» несогласии с призывами и требованиями режима. Но существовала ли на деле подобная тихая «духовная гавань»? Считать ли все выражения колебаний в письмах к близким и в личных дневниках некой внутренней оппозицией, а не всего лишь неуверенностью и реакцией на вызовы, перед которыми оказался автор? И в самом деле, Август Тёппервин продолжал верой и правдой служить режиму до последних дней войны. Выразив свое прозрение в словах «мы в буквальном смысле стремимся вырезать этот народ под корень как таковой», он умолк. Собственное признание, похоже, не противоречило для него вере в возложенную на Германию цивилизационную миссию идти на восток ради защиты Европы от большевизма.
Тёппервин более так и не поднимал тему убийства евреев до марта 1945 г., когда впервые за все время стал отчетливо осознавать неизбежность поражения Германии: «Человечество, которое ведет такую войну, сделалось безбожным. Русское варварство на востоке Германии, кошмарные налеты британцев и американцев, наша борьба с евреями (стерилизация здоровых женщин, расстрелы всех от детей до старух, отравление газом евреев целыми вагонами)!» Если приближающийся разгром казался ему своего рода наказанием свыше за содеянное по отношению к евреям, то, как следует из слов Тёппервина, последнее было не хуже и не лучше, чем действия союзников против немцев[7 - Ibid., 338: 17 Mar. 1945.].
Применительно к лету и осени 1943 г. мотивации, побуждавшие мирное население на домашнем фронте от Гамбурга до Швайнфурта так открыто и обреченно говорить о злодеяниях Германии против евреев, заключались в ином. В период между 25 июля и 2 августа 1943 г. бомбардировкам с воздуха подвергся Гамбург, где разгорелся гигантский огненный смерч, уничтоживший половину города и стоивший жизни 34 000 человек. Многих немцев случившееся заставляло искать параллели с апокалипсисом. Как доносила Служба безопасности СС (СД), демонстративный террор по отношению к жителям главных городов послужил – «к великому прискорбию» – причиной исчезновения по всей Германии «чувства безопасности», сменившегося «слепой яростью». В первый день бомбежки, 25 июля, произошло и еще одно важное событие, хотя и за пределами Германии. Итальянского диктатора Бенито Муссолини, находившегося у власти двадцать один год, свергли собственные соратники в результате бескровного переворота. Немцы немедленно связали воедино то и другое. На протяжении следующего месяца народ, по словам осведомителей, открыто обсуждал, не стоит ли последовать примеру итальянцев и заменить нацистский режим военной диктатурой, поскольку такая перестановка сулила «лучший» или, возможно, даже «последний» шанс достигнуть «сепаратного мира» с Западом. В умах нацистского руководства подобные настроения виделись наверняка тревожным индикатором падения боевого духа в народе и опасностью повторения капитуляции и революции ноября 1918 г.
В действительности кризис продлился недолго. К началу сентября 1943 г. все закончилось, поскольку режим поспешил вложить значительные ресурсы в улучшение гражданской обороны и организовать массовые эвакуации из городов. Между тем военное положение вермахта в результате занятия значительной территории Италии стабилизировалось, ну и гестапо со своей стороны удалось подавить «пораженческие» разговоры, похватав некоторых особо откровенных граждан. Как в размышлениях Тёппервина, так и в публичных обсуждениях тему ответственности немцев за убийство евреев подогревало чувство глубокого морального и физического беспокойства, поскольку набиравшее силу и размах наступление Бомбардировочного командования британских ВВС распространяло ощущение уязвимости далеко за пределы подвергавшихся бомбежкам городов. Значение временного политического кризиса, спровоцированного ударами по Гамбургу, состояло в факте выхода страха на поверхность; дальнейшие обострения стали развиваться по тем же шаблонам – в разговорах немцами будет руководить смешанное чувство обеспокоенности из-за собственной вины и их роли жертв[8 - MadR, 5571, 5578–9 and 5583: 5 and 9 Aug. 1943; Stargardt, ‘Beyond “Consent” or “Terror”‘, 190–204.].
Для немецких евреев их понимание войны неизбежно формировал разворачивавшийся Холокост. Но другие немцы воспринимали все с противоположной точки зрения: их в основном тревожила война, в свете чего они и воспринимали геноцид. Взгляд у тех и других на одни и те же вещи складывался совершенно несхожий, обусловленный сильнейшей разницей в возможностях и выборе, искаженный абсолютно разными страхами и надеждами. Эта проблема и сформировала мой подход к написанию истории происходившего в Германии в военное время. Если другие авторы подчеркивали механизмы массовых убийств и обсуждали, почему вообще стал возможен Холокост, я в большей степени сосредоточился на том, как именно само немецкое общество воспринимало и принимало эти знания в форме свершившегося факта. Какое воздействие оказало на немцев постепенное осознание того, что они участвуют в войне и геноциде? Или, если поставить вопрос по-другому, как война привела их к пониманию того, что есть геноцид?
Период июля и августа 1943 г. оказался, совершенно очевидно, моментом одного из глубочайших кризисов за все военное время в Германии, когда люди от Гамбурга до Баварии объясняли гигантские налеты союзников на города и уничтожение в них множества гражданских лиц воздаянием за то, «что мы сделали евреям». Такие разговоры о каре от союзников, или о «еврейском возмездии», подтверждают верность соображения о том, что позиция нацистской пропаганды, настырно – особенно в первые шесть месяцев 1943 г. – подававшей авианалеты как «еврейский бомбовый террор», в общем и целом населением принималась. Однако реакция народа приобрела неожиданный для властей оттенок самобичевания, крайне неприятно поразив Геббельса и прочих нацистских вождей. Казалось, людям хотелось разорвать порочный круг уничтожения теперь, когда немецкие города стали превращаться в руины. Однако «меры, принимаемые против евреев», как именовалось в устах СД их фактическое убийство, уже отошли в прошлое: массовые депортации евреев по всей Европе закончились в прошлом году. Огненная буря в Гамбурге поставила немцев в условия новой «тотальной» войны, ибо угроза уничтожения с воздуха сделалась безграничной.
Примитивные дуалистические метафоры «или – или», «быть или не быть», «все или ничего», «победа или смерть» имели в идеологии Германии долгую историю. Они лежали не только в основе главных идей Гитлера с самого поражения Германии в 1918 г., но выступали краеугольным камнем пропаганды Первой мировой войны с 6 августа 1914 г., когда кайзер озвучил свое «Обращение к германскому народу». Однако не этот апокалиптический взгляд на вещи поддерживал и укреплял популярность Гитлера в 1930-е и в первые годы Второй мировой, хотя ближе к концу войны восприимчивость немецкого общества к таким рассуждениям действительно заметно выросла. Отвернувшаяся от немцев военная фортуна словно овеществила экстремистские речи. В свете «бомбового террора» союзников угроза самому существованию – «быть или не быть» – обрела очень неприятный буквальный смысл. Пищей для развития кризиса летом 1943 г. послужил охвативший немцев страх перед перспективой сполна изведать ужасы развязанной ими беспощадной расистской войны. В ходе преодоления сильнейшего кризиса суровая реальность заставила людей не только распроститься с прежними ожиданиями и прогнозами в отношении течения войны, но и переступить через традиционные нравственные запреты, забыть о привычных понятиях порядочности и стыда. Воевавшие за Гитлера немцы вовсе не обязательно были нацистами, но в любом случае им предстояло на собственном примере уяснить, сколь тщетен расчет остаться в стороне от беспощадности войны и избежать воздействия созданных ею апокалиптических умонастроений[9 - Kershaw, ‘Hitler Myth’; Kershaw, Hitler, I–II; Wilhelm II, ‘An das deutsche Volk’, 6 Aug. 1914 // Der Krieg in amtlichen Depeschen 1914/1915, 17–18; Verhey, The Spirit of 1914; Reimann, Der grosse Krieg der Sprachen.].
Такая способность кризисов во время войны видоизменять или укоренять общественные ценности глубочайшим образом сказывается на нашем взгляде на взаимоотношения нацистского режима и немецкого народа. На протяжении последних тридцати лет большинство историков считали, будто кризисы, вызванные сожжением Гамбурга или гибелью 6-й немецкой армии под Сталинградом несколькими месяцами ранее, повергли немецкое общество в повальное уныние и пораженчество, и население, шаг за шагом отчуждавшееся от режима с его целями, в массе своей удерживалось в узде лишь нацистским террором. В действительности прямой связи между падением народного одобрения политики властей и ростом репрессий в середине войны не наблюдается: количество смертных приговоров в судах драматическим образом подскочило с 1292 случаев в 1941 г. до 4457 в 1942 г., то есть до окончательного разгрома под Сталинградом. Немецкие судьи реагировали тогда не на рост недовольства и брожение в низах, а на давление сверху, прежде всего со стороны Гитлера, требовавшего беспощадно карать уголовников, особенно рецидивистов. Существовала к тому же и система расового правосудия, в результате чего львиную долю казненных составляли угнанные на работу в Германию поляки и чехи. Лишь осенью 1944 г., когда армии союзников сосредоточились на границах Германии, под растущую волну репрессий стали попадать «рядовые немцы», однако настоящий разгул террора наблюдался только в заключительные недели боевых действий – в марте, апреле и в первые несколько дней мая 1945 г. Даже последние спазмы массового насилия не повергли в безмолвие немецкое общество; скорее, напротив, многие граждане Германии продолжали считать, что как верные патриоты обязаны открыто критиковать провалы нацистов. По собственному разумению немцев, их готовность делать это играла важную роль в борьбе с врагом до самого конца войны[10 - Наиболее важный вклад в эту интерпретацию в целом: Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen; Martin Broszat, ‘Einleitung’ // Broszat, Henke and Woller (eds.). Von Stalingrad zur W?hrungsreform; Joachim Szodrzynski, ‘Die „Heimatfront“‘ // Forschungsstelle f?r Zeitgeschichte in Hamburg (ed.). Hamburg im ‘Dritten Reich 633–885; из последних работ, Schneider // der Kriegsgesellschaft, 802–834. По смертной казни, Evans, Rituals of Retribution, 689–696.].
Живучее представление о пораженчестве среди немцев основывается до известной степени на здравом смысле: историки увязывают между собой успехи режима и одобрение народа, с одной стороны, и провалы нацистов с критикой и недовольством в их адрес – с другой. Подобные шаблоны, несомненно, работают в мирное время, но не в условиях глобальной войны. Иначе нельзя объяснить происходившее на самом деле. Как же немцы смогли продолжать сражаться с 1943 по 1945 г., когда материальные и людские потери с их стороны только нарастали, причем неизменно? Эта книга представляет совершенно иной взгляд на воздействие поражений и кризисов на немецкое общество во время войны. Террор, безусловно, играл свою роль в отдельные моменты, но он никогда не служил единственной – или наиболее важной – причиной того, почему немцы продолжали драться. Нельзя сбрасывать со счетов ни нацизм, ни саму по себе войну, поскольку немцы рассматривали перспективы своего поражения в свете самого их существования как народа. Чем хуже шли дела на фронте, тем более очевидно «оборонительный» характер принимало противостояние. Сменявшие друг друга, но вовсе не приводившие к крушению кризисы выступали в качестве катализатора радикальной трансформации, по мере того как немцы пытались овладеть обстановкой и переосмыслить грядущее – то, чего им следует ожидать и к чему готовиться. Да, конечно, крупные бедствия вроде Сталинграда и Гамбурга катастрофически снижали популярность режима, но сами по себе они не ставили под вопрос необходимость следовать путем патриота. Тяготы войны высветили и показали во всем многообразии недовольство и конфликты внутри немецкого общества, полномочия сглаживать и разрешать которые оно вверяло тому же самому режиму. Однако какой бы ни становилась война, она оставалась оправданной – больше чем нацизм. Кризисы в Германии в середине войны не породили повальное пораженчество, а, напротив, укрепили связывающие общество узы. Именно на этих более сложных и динамичных обстоятельствах в реакции немцев на события войны я и сосредоточил внимание в книге.
Когда 26 августа 1939 г. вышел приказ о мобилизации, немцы и понятия не имели, что их ожидает. Однако многие не скрывали мрачного отношения к перспективе войны. Они хорошо помнили вчерашний день: 1,8 миллиона погибших на фронте в прошлом конфликте; «брюквенная зима» 1917 г.; «испанка» 1918 г.; и лица изможденных голодом детей – ведь британский Королевский военно-морской флот продолжал держать страну в блокаде и в 1919 г. с целью принудить новое германское правительство к подписанию унизительных условий мирного соглашения, «продиктованных» ему Антантой. Доминантой в германской политической жизни в 1920-х и 1930-х гг. сделались попытки сорваться с крючка Версальского договора, но даже крупнейший внешнеполитический триумф Гитлера – Мюнхенское соглашение 1938 г. – уходил в тень перед страхом вновь оказаться в состоянии войны с прежними противниками. Первый, и главный, урок 1914–1918 гг. гласил – никогда не повторять подобного. Когда же пришла война, а с ней и карточная система, то и другое народ встретил с мрачной миной. В первую зиму жители городов сравнивали нехватку провизии, одежды и прежде всего угля для отопления с зимами 1916 и 1917 гг., ворча и кляня хронический дефицит. Ничего хорошего в плане готовности немцев «держаться» подобные настроения для властей не предвещали, о чем СД предупреждала нацистское руководство в еженедельных рапортах о «настроениях в народе».
С точки зрения нацистов, начальные месяцы войны подняли критически важные вопросы прочности их правления впервые с самого прихода к власти в 1933 г. Если брать поверхностный уровень, им в предвоенные годы явно сопутствовал успех. По разным причинам – от приспособленчества до простого удобства или даже убеждений – членство в партии выросло с 850 000 человек в конце 1932 г. до 5,5 миллиона в преддверии войны. К тому времени Национал-социалистическая женская организация включала в себя 2,3 миллиона человек, а Гитлерюгенд и Союз немецких девушек – 8,7 миллиона, причем во всех этих структурах активно действовали всевозможные курсы идеологической подготовки, от вечерних посиделок до недельных сборов в летних лагерях. Наследники рабочих комитетов взаимопомощи и профсоюзных организаций – Национал-социалистическая народная благотворительность и Германский трудовой фронт – могли похвастаться соответственно 14 и 22 миллионами членов. Особенно впечатляет в большинстве своем добровольный характер службы персонала. К 1939 г. две трети населения состояли по меньшей мере в одной из массовых организаций партии[11 - Kater, The Nazi Party; Benz (ed.). Wie wurde man Parteigenosse?; Nolzen, ‘Die NSDAP’, 99–111.].
Такой ошеломительный успех основывался на сеющем рознь горьком наследии принуждения и согласия. В 1933 г. после долгих лет уличных боев нацисты получили наконец шанс довести дело до конца и разделаться с политическими оппонентами – покончить с левыми. При активном содействии полиции, армии, даже пожарных СА и СС окружали районы проживания «красных», проводили там методичные обыски, запугивая и избивая жителей, арестовывая местных активистов и функционеров. Затем, на волне постоянных налетов, последовал официальный запрет организаций левого крыла: коммунистов – в марте, профсоюзов – в мае и, наконец, в июне 1933 г. – социал-демократов. В мае 50 000 оппозиционеров – в большинстве своем коммунисты и социал-демократы – уже находились в концентрационных лагерях. К лету 1934 г., на пике террора против левых, налаженный аппарат насилия нацистов перемолол не менее 200 000 мужчин и женщин. Публичные наказания в лагерях, со всем присущим им репертуаром унижений и бессмысленной муштры, имели целью добиться унификации взглядов и слома воли заключенных. Настоящий успех программы «переучивания» показал себя в массовом освобождении запуганных и забитых пленников и возвращении их в семьи и сообщества. К лету 1935 г. в лагерях содержались не более 4000 заключенных – олицетворяемую левыми «другую Германию» нацисты как явление политическое раздавили полностью и бесповоротно[12 - Peukert //side Nazi Germany; Gellately, Backing Hitler; Wachsmann, Hitler’s Prisons; Caplan and Wachsmann (eds.). Concentration Camps; Evans, The Third Reich in Power, chapter 1.].
С началом в августе 1939 г. в Германии мобилизации гестапо позаботилось о повторных арестах бывших социал-демократических политиков. Труднее оценить степень успеха режима в искоренении субкультуры рабочего класса, служившей опорой левых движений с 1860-х гг. Несомненно, какие-то ее анклавы сохранились уже под новой вывеской. До 1933 г. в футболе господствовали рабочие спортивные клубы, включавшие в себя около 700 000 членов, а также 240 000 спортсменов из католических обществ. И пусть Германский трудовой фронт быстро вобрал их в себя, а нацисты реорганизовали всю структуру футбольных союзов, сделав их куда более соревновательными и зрелищными, по-настоящему контролировать болельщиков власти не могли. В ноябре 1940 г. товарищеский матч в Вене закончился полномасштабными беспорядками: местные болельщики бросились на площадку после последнего свистка и швыряли камнями в гостей соревнования до тех пор, пока те не покинули стадион. В их автобусе выбили окна; здорово досталось даже машине гауляйтера[13 - От нем. Gau (область) и Leiter (руководитель); глава областной партийной организации в Третьем рейхе. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.] Вены. Органы безопасности усматривали в происшествии в первую очередь акт политической демонстрации, но они явно заблуждались. На самом деле оба клуба имели традиционную, сугубо лояльную и в прошлом «красную» рабочую основу, а сам товарищеский матч местные рассматривали как шанс поквитаться за унизительный проигрыш «Адмиры» «Шальке» в 1939 г. со счетом 9:0, в германском финале, поскольку болельщики, с подозрением относившиеся к череде блистательных успехов команды из Рурской области, приписывали ее победу тенденциозному судейству в Берлине. Беспорядки питались традиционной мужской верностью землякам и городу в той же мере, в какой и протестом австрийцев против притока заносчивых «пруссаков» в Вену после аншлюса в марте 1938 г.[14 - Oswald, Fu?ball-Volksgemeinschaft, 282–285; Havemann, Fu?ball unterm Hakenkreuz.].
Тлеющие угли рабочей солидарности утратили всякий потенциал. Мир, так долго и скрупулезно создаваемый социал-демократами за счет взаимопомощи, хоровых кружков, физкультурных секций, похоронных обществ, детских садов и велосипедных клубов, нацисты либо включили в свои организации, либо уничтожили. В июле 1936 г. ссыльные социал-демократы оплакивали крушение традиций коллективизма, признавая, что «заинтересованность рабочих в судьбе своего класса исчезла в значительной степени, если не полностью. Ее сменил мелкотравчатый личный и семейный эгоизм». С возвращением после войны левого движения голос его зазвучал с новой силой, однако оно не смогло воссоздать прочную организационную субкультуру догитлеровских времен. Конечно, на момент начала войны СД и гестапо не могли знать, насколько успешным оказалась их комбинированная политика подавления и вовлечения, и настороженно отслеживали действия представителей рабочего класса, усматривая в них постоянную угрозу[15 - Sopade 3, 836: 3 July 1936; Schneider, Unterm Hakenkreuz.].
Нацисты могли не беспокоиться относительно среднего класса – фермеров, хозяев собственных дел, мастеровых высокого уровня, образованных профессионалов и управленцев. Протестанты встречали «национальную революцию» нацистов радостно – с энтузиазмом и надеждами, сравнимыми с выражением поддержки войне в 1914 г. Объединяющим фактором служило неприятие «безбожного» модернизма Веймарской республики; у протестантов он ассоциировался с «идеями 1789 г.», пацифистами, демократами, евреями и всеми теми, кто принимал поражение. Протестантские пасторы и теологи начали выковывать этот широкий альянс еще в 1920-е гг. с разговоров о создании новой «народной общности», звучавших привлекательно для многих представителей всего политического спектра. Вчерашние либералы, консерваторы, члены католической Партии Центра, даже бывший электорат социал-демократов – все они носились с «народной общностью» во время Первой мировой войны и в годы Веймара, то есть до превращения идеи в ключевой лозунг нацистов. Даже консервативные еврейские националисты вроде историков Ганса Ротфельса и Эрнста Канторовича тяготели к подобной «национальной революции» и не очень понимали потом, отчего это им пришлось убираться из страны как представителям «неарийской» расы[16 - Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik; Wildt, ‘Volksgemeinschaft’ // Steber and Gotto (eds.). Visions of Community in Nazi Germany, 43–59; Schiller, Gelehrte Gegenwelten; Eckel, Hans Rothfels.].
Подобные ненацисты ставили национальное раскаяние за провал в 1918 г. во главу угла некоего будущего подвига сограждан на пути к «спасению народа». Многие так хорошо послужившие нацистам аргументы породило вовсе не само движение, они пришли со стороны – от людей вроде молодого теолога и бывшего военного капеллана Пауля Альтхауса. Отрекшийся от пацифизма в 1919 г., он настаивал на обязанности немцев показать себя вновь достойными милости Божьей через выступление против условий Версаля. Мешая в рассуждениях тонкость богословской аргументации с воинственным национализмом, Альтхаус превратился в грозную фигуру и одного из главнейших пропагандистов консервативного лютеранства и идеи богоизбранности немецкого народа. Им, по его разумению, предстояло спастись, только показав себя достойными оказанного свыше доверия. И пусть многие радикальные нацисты безуспешно пытались отвратить народ от религии, они с готовностью откликнулись на разговоры церковников о духовном перерождении народа. А тем временем более универсалистские и пацифистские взгляды, как, например, идеи Пауля Тиллиха, успешно подвергались оттеснению и поруганию усилиями ненацистских теологов вроде того же Альтхауса[17 - Ericksen, Theologians under Hitler; Hetzer, ‘Deutsche Stunde’; Stayer, Martin Luther; Sch?ssler, Paul Tillich.].
С приходом к руководству страной нацисты отказались от затеи крупномасштабной социальной инженерии, сосредоточившись на революции чувства. Вскарабкавшись на властный Олимп, они спланировали и организовали народный театр, привлекая военизированные формирования с их флагами, солдатскими башмаками и формой, ну и, конечно, факельными шествиями. Амбиции нацистов простирались в святая святых буржуазной культуры – местные театры, где их агитпроп с пьесками о сопротивлении фрайкоров[18 - Фрайкор (Freikorps – «свободный корпус») – наименование полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII–XX вв. – Прим. науч. ред.] французской оккупации Рура в 1920-х гг. бросил вызов традиционному классическому репертуару, берущему истоки в XIX столетии. В 1933–1934 гг. нацисты вышли за физические рамки обычного театра путем создания тингшпиля – морализаторских постановок нового типа, разыгрывавшихся под открытом небом с гигантскими мимическими интерлюдиями и при участии масс исполнителей, достигавших 17 000 человек, перед аудиторией иной раз до 60 000 зрителей. Как правило, целью таких огромных шоу служило стремление заставить немцев переродиться и изгнать из них комплекс проигравших Первую мировую войну. В принадлежавшей перу Рихарда Ойрингера постановке «Немецкие страсти» (Deutsche Passion) павшие солдаты Первой мировой войны в буквальном смысле восстают из могил и батальонами маршируют через сцену, при этом белые лица призраков сверкают из-под стальных касок, а герои взывают к единению и духовному возрождению[19 - Strobl, The Swastika and the Stage, 58–64, 104, 134–137.].
К 1935 г. мода на тингшпиль, как и работа нацистского агитпропа в муниципальных театрах, набрала максимальные обороты. И тут Геббельс столкнулся с бунтом владельцев абонементов, начавших отказываться от их продления. Он тут же поменял подход, уволив новых директоров из нацистов и заменив их компетентными профессионалами. Состоявшая преимущественно из представителей среднего класса аудитория получила вожделенную классику. В ноябре 1933 г. 10-ю годовщину мюнхенского пивного путча отмечали нацистскими пьесами; десять лет спустя – операми Моцарта. Несмотря на отступление на фронте репертуарной политики, Геббельс продолжал вкачивать огромные ресурсы в театры – на их финансирование уходило фактически больше средств, чем на саму пропаганду[20 - Ibid., 187.].
Существовал риск, что достижения нацистов, сумевших покончить с отчаянной нищетой и беспорядками времен Великой депрессии, послужили мощным, но неглубоким стимулом для оказания поддержки Третьему рейху со стороны народа. Ключевые партийные и государственные органы опасались эфемерного характера их успехов: в верхах возникали огромные сложности с оценкой того, насколько прочно удалось внушить населению основные нацистские ценности и идеалы. За ширмой «народной общности» не стихали дебаты относительно экономического перераспределения и социальной политики, о «реформе жизни» и педагогики и даже о том, можно ли женщинам носить брюки или все-таки только юбки. Гитлер всегда старался избегать «папских»[21 - То есть подобный высказываниям римских пап. – Прим. науч. ред.] высказываний на публике, а один из главных идеологов партии Альфред Розенберг, как раз допускавший догматические заявления, вызывал повсеместное раздражение крайне антихристианскими позициями и, совершенно очевидно, не располагал при новом режиме заметной политической властью[22 - Martina Steber and Bernhard Gotto, ‘Introduction’, and Lutz Raphael, ‘Pluralities of National Socialist ideology’, both in Steber and Gotto (eds.). Visions of Community in Nazi Germany, 1–25 and 73–86; Noakes, Nazism, 4, The German Home Front, 355–359.].
В преддверии войны большинство немцев принадлежали к традиционным христианским общинам и одновременно состояли в организациях нацистской партии; но все-таки гораздо больше – 94 % – числили себя католиками или протестантами, тогда как в нацистских организациях состояли две трети населения. Церкви являлись наиболее важными отдельными гражданскими институтами в Германии, и немало священников и пасторов отправились в концентрационные лагеря за критику в адрес нацистов с церковной кафедры. В июле 1937 г. гестапо арестовало самого прямолинейного пастора в Берлине Мартина Нимёллера. Дальнейшую историю Третьего рейха он наблюдал из-за колючей проволоки. В апреле 1945 г. взошел на виселицу в концлагере Флоссенбюрг молодой протестантский теолог Дитрих Бонхёффер. Потом, много позже, оба превратились в символы гражданского мужества перед лицом натиска нацистской машины подавления. Бонхёффер представлял либеральную, гуманистическую теологию, потесненную и отправленную в ссылку вместе с Паулем Тиллихом. Сами идеи – и Бонхёффер как символическая фигура – обрели актуальность для послевоенной Западной Германии не ранее конца 1950-х – начала 1960-х гг. Нимёллер есть нечто совершенно иное. Вовсе не либеральный демократ, но антисемит, консервативный националист, он служил капитаном подлодки во время Первой мировой войны, в 1919–1920 гг. состоял во фрайкоре и только позднее сделался священнослужителем. Нимёллер деятельно поддерживал Гитлера на выборах, начиная с 1924 г. и вплоть до 1933 г. Когда в 1939 г. запылал пожар войны, Нимёллер вновь пожелал служить стране на море, о чем писал из Заксенхаузена командующему германским ВМФ адмиралу Редеру. Инакомыслие Нимёллера в 1930-х гг. имело в большей степени религиозный, нежели политический характер, а проповедуемое им христианство боролось за место на поле германского протестантизма[23 - Bentley, Martin Niem?ller; Gailus, ‘Keine gute Performance’ // Gailus and Nolzen (eds.). Zerstrittene ‘Volksgemeinschaft’ 96–121.].
Оказав восторженную поддержку «национальной революции» нацистов в 1933 г., протестанты затем довольно скоро разделились на три направления. Многие пасторы вступили в Немецкое христианское общество, стремившееся расширить духовное обновление в области литургии и теологии: запретить Ветхий Завет и очистить Новый от еврейского влияния, а также изгнать обращенных в христианство евреев из протестантского священничества. Традиционалисты, желавшие защитить Писание и литургию и оградить церковь от давления государства, создали сначала Пасторский союз, а затем, в мае 1934 г., Исповедническую церковь. Раскол этот почти повсеместно трактуется и подается неверно как результат борьбы либералов и нацистов за душу церкви. Но это не так. Пусть Карл Барт – главный автор Барменской декларации[24 - Программный документ Исповеднической церкви, принятый на ее первом синоде в мае 1934 г. и направленный против профашистского движения «немецких христиан». – Прим. науч. ред.] – остался критиком диктатуры и вернулся в Швейцарию, пасторы из Исповеднической церкви цитировали его не особенно часто; Барт был не лютеранином, как большинство немецких протестантов, а кальвинистом. Многие пасторы по обе стороны этих духовных баррикад – в том числе и Нимёллер – выступали за те же в основе своей националистические, авторитарные и социально цементирующие политические ценности.
Подобные тенденции предоставляли отличный шанс выдвинуться третьей группе внеблоковых лютеранских теологов, объединившихся вокруг Пауля Альтхауса. Он не вступил в нацистскую партию, но деятельно приветствовал получение Гитлером поста канцлера как «чудо и дар Божий». Хотя Альтхаус никогда не участвовал в ритуалах сожжения книг запрещенных авторов, подобные акции он оправдывал. Прокатившиеся по Германии в ноябре 1938 г. еврейские погромы Альтхаус подавал под соусом всевластия Господня над историей – якобы сами страдания евреев теперь свидетельствуют об их виновности[25 - Althaus, Die deutsche Stunde der Kirche, 3rd edn, 5; Gailus, Protestantismus und Nationalsozialismus, 637–666.].
Мир германского католицизма тоже разделился, но в данном случае по поколениям. Возраст епископов колебался между шестьюдесятью и восьмьюдесятью годами, то есть они годились в отцы большинству протестантских теологов и нацистских вожаков. В основном епископы удостоились рукоположения в десятилетия до Первой мировой войны и прошли школу крайне консервативной неоаристотелевской теологии, внутренне последовательной и отвлеченной в выборе языка. Святые отцы проклинали «модернизм» за болячки либерализма, социализма, коммунизма и атеизма. Разделявшие престарелых епископов и более молодых священнослужителей и мирян пустоты приводили к трениям и внутри церкви на коммуникативном и политическом уровнях. Если епископы демонстрировали тенденцию видеть социальные реформы узко и консервативно, многие молодые католики рассматривали «национальную революцию» 1933 г. в свете возможности принять более деятельное участие в формировании немецкого общества. Война лишь способствовала обострению раскола между консерваторами и реформаторами[26 - Brodie, ‘For Christ and Germany’, D. Phil., Oxford, 2013.].
Нацисты оказывали определенное давление: запрещали движение католической молодежи, старались сильнее секуляризировать образование и принудить сеть психиатрических клиник организации «Каритас»[27 - От лат. «милосердие». Национальные благотворительные католические организации, возникшие на рубеже XIX–XX вв. – Прим. науч. ред.] к проведению насильственной стерилизации пациентов. В период летних каникул 1938 г. нацистские активисты убрали распятия из школ в Баварии, чем вызвали глубокое раздражение со стороны населения сел и маленьких городков, обратившего праведный гнев на известных радикалов из СС, прежде всего на местного гауляйтера Альфреда Розенберга. Однако католики не очерняли само нацистское движение и зачастую оставались активными членами нацистских организаций, стараясь найти поддержку у более привлекательных, с их точки зрения, вожаков, таких как Герман Геринг. Гитлер и сам тщательно откорректировал свои взгляды на вопросы религии, поэтому архиепископ Мюнхена кардинал Фаульгабер и примас церкви Германии кардинал Бертрам Бреслауский пребывали в убеждении, будто фюрер – глубоко набожный человек. Верность делу нации привела католическую церковь и нацистский режим в период войны в лоно союза, называемого в последнее время историками вынужденным «сотрудничеством антагонистов»[28 - О конфликте см.: Kershaw, Popular Opinion and Political Dissent, 185–223; Stephenson, Hitler’s Home Front, 229–264; антагонистическое сотрудничество: S??, ‘Antagonistische Kooperationen’ // Hummel and K?sters (eds.). Kirchen im Krieg, 317–342; Kramer, Volksgenossinnen an der Heimattfront; Brodie, ‘For Christ and Germany’, chapter 3.].
В отсутствие привычного и понятного им духовного водительства отдельные католики и протестанты очутились перед лицом вынужденной необходимости преодолевать проблемы и сложности, связанные с вопросами совести, доверяя мысли письмам и дневникам, в результате чего предоставили историкам бесценные нравственные записи, отражающие образ мыслей наиболее либеральных и гуманных членов «народной общности»[29 - Stargardt, ‘The Troubled Patriot’, 326–342.].
Когда в сентябре 1939 г. вспыхнула война, в Германии ее приняли крайне нерадостно. Однако никто особо не терзался в поисках ответа на вопрос, почему она началась. Если в Британии и Франции мало кто сомневался, что нападением без веских причин на Польшу Гитлер развязал конфликт ради завоеваний, немцы пребывали в уверенности, будто вынуждены воевать ради самообороны из-за махинаций союзников и агрессивных поползновений поляков. О подобных воззрениях в серьезных исторических исследованиях упорно не писали и не пишут – лишь где-то мельком что-то всплывает на сайтах авторов, потворствующих неонацистам. В нашу эпоху кажется довольно странным, что тогда в такие вещи искренне верили многие немцы, причем вовсе не являвшиеся махровыми нацистами. Как они могли перепутать намеренно разжигаемую их властями жесточайшую империалистическую войну с войной ради обороны отечества? Как могли они видеться себе патриотами в кольце врагов, а не борцами за дело Гитлера с его расой господ?
Первая мировая послужила не только мерилом нужды и тягот в тылу, на домашнем фронте. Она в основе своей обусловила характер понимания причин Второй мировой войны в следующем поколении. Это Британия и Франция 3 сентября 1939 г. объявили войну Германии, точно так же как Россия начала мобилизацию в 1914 г., а потом вторглась в Восточную Пруссию[30 - Германия сама объявила войну России 1 августа 1914 г., и только через две с половиной недели после этого началось наступление российских войск; по плану Шлиффена немцы рассчитывали на медлительность России и надеялись за время проведения той мобилизации покончить с французами.]. В августе 1914 г. пожар разгорелся после долгого процесса «окружения» неприятельскими державами, предположительно с подачи Великобритании, стремившейся сохранить мировую гегемонию и ослабить Германию. Те же доводы, причем выраженные в тех же фразах, зазвучали и в 1939 г., по мере того как немцы отмечали в дневниках вехи польского кризиса. И снова британские имперские амбиции выступали в роли корня всех зол; кровожадность Британии особо подчеркивал безоговорочный отказ ее правительства от неоднократно озвучиваемых Гитлером мирных предложений – после захвата Польши и затем опять, в 1940 г., после падения Франции. В общем, идея оборонительной войны вовсе не представлялась лишь измышлением, навязанным народу нацистской пропагандой. Многие из тех, кто вовсе не приходил в восторг от нацистов, рассматривали противостояние именно так. Все в Германии воспринимали Вторую мировую через призму Первой, независимо от того, пережили они ее или нет. По меньшей мере на раннем этапе немцам не пришлось сразу воевать на двух фронтах, как в 1914 г., избежав кошмара благодаря подписанному в последнюю минуту договору о ненападении с Советским Союзом. Однако к Рождеству 1942 г. Германия опять находилась в состоянии войны с Британией, Россией (СССР) и Америкой – точь-в-точь как в 1917 г.