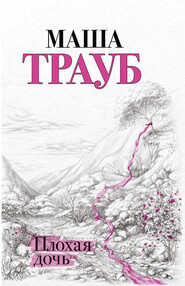
Полная версия:
Плохая дочь
Нет, дядя Сандро умер не в одиночестве, когда уже никто ему не верил. Он вызвал «Скорую», встретил врачей, лег на кровать и после этого умер.
* * *В одном городке, скорее в поселке городского типа, затерянном в Центральной России – унылом, состоявшем из пятиэтажек, где жила очередная мамина знакомая, согласившаяся меня приютить, я поняла, что все люди одинаковые. Тетя Анжела точно так же молит небеса послать ей терпение, как и тетя Марина. Предсмертные желания бабы Веры мало чем отличались от желаний дяди Сандро.
Баба Вера, в доме которой я жила, убеждала свою невестку Анжелу, управлявшую хозяйством и свекровью, сжечь ее после смерти.
– Анжела, никакого гроба! Давай ты меня сожжешь, как ты мечтаешь! – заклинала баба Вера.
– Баба Вера, я вас сейчас зарежу, потом утоплю, а только потом сожгу. Перестаньте делать мне нервы! – кричала Анжела, интонируя, почти как тетя Марина.
– Анжела, зачем ты меня в землю хочешь? Ты ко мне придешь? Нет. Мой сын ко мне придет? Нет. Он к тебе не приходит после того, как со Светкой спутался. Ты думаешь, он про меня вспомнит? Остальные все на том свете. Зачем мне могила? Чтобы я там одна лежала и смотрела, как про меня все забыли? Ты будешь цветы сажать и ограду мыть? Я тебя умоляю. Тебе есть чем заняться. Мой сын или его Светка на родительский день ограду покрасят? Да я сама скорее из гроба встану и все покрашу. Эта Светка его еще та засранка. Намарафетится, прическу сделает, а в доме вечный срач. Анжела, сожги меня! Зачем ты меня так не любишь?
– Я приду на вашу могилу. Намарафетюсь и приду. И Светку за волосы притащу, – отвечала Анжела.
– Один раз придешь, ну два. А потом? Выйдешь замуж. Что ты скажешь своему мужу? Поеду на могилу бывшей свекрови? У тебя в новой семье новые покойники появятся. Зачем тебе старые? Будешь думать, какую оградку вперед красить. Оно тебе надо? Сожги меня! Зачем ты меня так не любишь?
– Баба Вера, давайте вы будете уже здоровы и помолчите! – кричала Анжела. – Санек, ты опять обосрался? Я тебе горшок на голову в следующий раз надену! Снеговиком будешь ходить! Обосранным, как моя жизнь. Ксенька! Помой брата! Я сейчас оторву твою голову и в телевизор засуну! Потом достану, и ты будешь ходить с квадратной головой! Выключи, мать сказала! Иди картоху почисть! Нет, я тебе сначала руки оторву и на место приделаю. Из жопы к плечам приставлю! Как ты белье повесила? Господи, картоха, что моя жизнь. Вся с глазка́ми. Тут выковыриваешь, там выковыриваешь, а жрать в результате нечего. Все в помойное ведро. Отковырки одни. Ксенька, я что сказала? Если ты оглохла, так я тебе кастрюляку на голову надену и половником стукну, вот тогда ты оглохнешь. Или я сейчас себе кастрюляку нацеплю, чтобы от вас всех оглохнуть.
Анжела, которую муж бросил с двумя детьми и свекровью, успевала все – вкусно готовить, орать, таскать тяжелые сумки с продуктами, работать в ателье закройщицей, брать дополнительные заказы на дом, строчить по ночам с пулеметной скоростью на швейной машинке.
– Анжела, я уже проснулась! Дай мне заснуть снова или скажи, шо мне делать? – кричала соседка Катька, разбуженная стрекотом машинки.
– Рукав дострочить надо! – кричала в ответ Анжела, нимало не беспокоясь о том, что криком перебудит детей, свекровь и соседей. А орала она куда громче швейной машинки.
– Если Славик проснется и начнет приставать, я тебя утром пришибу! Опять надрался и руки распускал, – кричала Катька.
– Это он тебя с Люськой перепутал, – хохотала в ответ Анжела.
– А то я сама не знаю, с кем он меня перепутал! Вот спасибо, глаза мне открыла окончательно. Еще поори так, чтобы Люська это услышала, а то она страдает поди по моему Славику. Заодно крикни, чтобы забирала Славика. Я его упакую ей в лучшем виде. В банку, как кильку, закатаю. Или в рассол с помидорами. Слушай, опять пять банок взорвались. Дашь мне свою закрутку? Или чего я не положила? Мне в потолок теперь смотреть? Чего я там не видела? – кричала соседка.
– Да заткнитесь вы обе уже! – отвечала криком другая соседка.
– О, Валька, а ты не спишь, что ли? – радовалась Катька.
Во дворе начинали брехать собаки и орать дурниной коты.
– Уснешь тут с вами. Анжелка, умоляю, хватит. Утром рукав дострочишь, – кричала Валька.
– Валька, твое платье строчу. Сама ж завтра придешь претензии выдвигать! – отвечала Анжела.
– Давай я послезавтра приду, только дай поспать уже. Только закемарила.
– Что, опять у малого зубы режутся? – кричала Катька.
– Да уже динозавр или людоед. Восемь зубов, грудь сожрал.
– Так дай ему мяса! Сколько можно сиську терзать? У тебя что, лишняя есть? Так дай мне. Я твою в свои подоткну, может, Славику понравится, – смеялась окончательно проснувшаяся Катька.
– Сколько надо, столько и буду. Уж лучше дите кормить, чем мужику давать. Я своему сказала – если он только дотронется, так еще одного рожу. Или пришибу на хрен. Присосался тут на днях, я чуть не взвыла. Теперь вообще от меня шарахается.
– Чего так? – ахнула завистливо Катька.
– Того. Я ж соски́ зеленкой намазала ровным слоем. Не знала, что мой вдруг полезет. Так утром смеялась, что обоссалась. Он утром с зеленым ртом встал. Пошел умываться, так перепугался вусмерть. Чуть не обосрался. Я ему сказала, что это точно от его гулянок. Так, мол, первые признаки проявляются. Уж не знаю, говорю, чего подхватил, может трипака, может, чего похуже. Вот и зелень на губах проступила. Все, кранты, считай. Ото рта вниз недолгая дорожка, скоро все и отвалится. Так он уже десять килограммов картохи натащил, мешок муки и лука два ящика загрузил. Извиняется.
– И с кем он?
– Да какая мне разница? Завтра еще морквы натащит, сахару мешок обещал достать и масла сливочного.
– А если узнает, что у него ничего нет?
– Так я марганцовкой в следующий раз обмажусь с ног до головы! Или опплюется, или просрется, – хохотала Валька.
– Девки, а спички лишние есть? – спрашивала Анжела.
– Есть, тебе зачем?
– В глаза вставить, а то закрываются.
– Все, Анжелка, давай сворачивайся. Что ты своим даешь, что они спят как убитые? Дай мне, я тоже посплю.
– На том свете отоспимся, – отвечала Анжела.
Эта присказка была не просто присказкой. Отоспаться, наесться досыта, не вкалывать, как проклятая, и в самом деле можно будет только на том свете. Но никто из женщин даже в мыслях не держал приблизить этот конец. Нельзя. Забот на этом свете по горло. Хотя бы часть успеть разгрести – детей на ноги поставить, стариков достойно похоронить, сына женить, дочь замуж выдать, внуков увидеть да успеть понянчиться. Ну и помельче – картохой запастись, мукой да сахаром затариться впрок.
Каждый день с новыми заботами и событиями откладывал надежду отправиться на тот свет. Соль, лук, морква, свекла. Огурцы, помидоры, ягоды. Яблоки, вишня. Банки, закрутки, засолки. Варенье, компоты. Наливки, настойки. Летом готовились к зиме, зимой ждали весны, чтобы начать «садить» огород, разбивать парники. Нужно было выживать. Остальные эмоции – ревность, любовь, страсть – оказывались не столь сильными, как забота о запасах, выкармливании детей и сохранении дома. Дом подразумевал детей, пожилых родственников, которые требовали ухода, но никак не обязательное наличие мужа. Муж мог жить где угодно, но дети, свекрови, тещи, золовки и прочие тетушки со всех сторон знали – дом там, где женщина. Жизнь там, где женщина и ее дети. И надо держаться их, чтобы выжить. А мужик? Что мужик? Где удобная, мягкая титька, там и мужик. Где борщ – там и мужик. Где жена, которая по ночам строчит, чтобы копейку заработать, туда и мужик вернется. И то, если жена пустит.
В детстве я жила в условиях матриархата, где всё всегда решали женщины – измученные, работающие по ночам, заботящиеся обо всех родственниках, дальних и ближних, кормящие своих и чужих детей – без разницы. Принимавшие внебрачных детей, детей скоропостижно скончавшихся теток, которых видели раз в жизни. Я, можно сказать, случайно была воспитана так же – работать, выращивать, кормить, доставать, принимать, держать дом, сохранять этот пресловутый семейный очаг, в котором не всегда находится место мужчине – главе семьи. Но его дети – законные и рожденные вне брака, тетушки, дядюшки, дедушки, сестры и братья, племянники, сватьи и крестные, замешанные на седьмом киселе, – святое. Они – семья. Значит, их нужно кормить и спасать, оберегать от невзгод и приходить им на помощь. Если кто-то просил приглядеть за ребенком, нельзя, невозможно, немыслимо отказать. Именно так я оказывалась у теть Марин, теть Анжел – мама просила их приглядеть за девочкой, ребенком. Пока наши родители убивались, дети получали возможность выжить и вырасти.
– Да проще сдохнуть, – чаще приговаривала Валька во время ночных перекличек с соседками, рассказывая про мужа, свекровь, детей, хозяйство.
– Проще-то проще, так кто ж даст! – в унисон отвечали Анжела с Катькой.
Смерти они не боялись. Судьба держала их здесь, на этом свете – дети, обязательства, обстоятельства, – сейчас не время, вообще никак нельзя на тот свет.
Болезни обходили их стороной – а какой смысл? Женщины их не замечали. Тянет – пройдет, голова болит – завяжи и лежи, колет – переколет.
Позже, много позже, я узнала, что тетя Анжела умерла от рака. Врачи не могли понять, как она столько времени терпела адскую боль. Как могла не замечать симптомов? Когда замечать-то? Рукав надо дострочить к утру.
Анжела успевала ухаживать не только за свекровью, но и за мной, «упавшей счастьем ей на голову». Именно так она и говорила: «Только тебя мне для полного счастья не хватало», – но мне и казалось, что я счастье, которого так не хватает тете Анжеле. Ведь на самом деле она была доброй, заботливой, смешливой, сумасшедшей, веселой. Я ее любила. Как и бабу Веру, которая знала, что к ней никто не придет на могилу. Она хотела сделать при жизни так, чтобы на том свете об этом не переживать.
– Анжела, а ты конфеты мне принесешь на кладбище? – заходила баба Вера на новый круг. – Мои любимые, шоколадные. И водочки оставишь?
– Да щас, чтобы всякая алкашня водку выхлебала и конфетами закусила? – возмущалась Анжела.
– У всех на могилках будут конфетки лежать и водочка стоять в стакане, а у некоторых даже в графине. Одна я без конфет и водки, – причитала баба Вера.
– Соседи за оградкой поделятся. Отольют из графина-то, – отвечала Анжела.
– Сожги меня. Чтоб я побирушкой на том свете не ходила.
– Баба Вера! Я вас сейчас зарежу! Вот этими руками, только лук дочищу! – кричала Анжела. – Меня не жалеете, внуков своих не жалеете, так хоть Машку пожалейте! Что она своей матери расскажет? Девка, вон, и так с выпученными глазами все время ходит. Вроде я ее не такую выпученную брала. Давайте ее мать приедет, заберет, а потом умирайте, как хотите.
И баба Вера после этого притихла с разговорами про смерть и кремацию. А буквально через пару дней загорелась новой идеей.
– Анжела, а давай ты мне платье пошьешь и пальто, – объявила она.
– Баб Вер, вы совсем умом тронулись. Я и так не сплю, так давайте я все брошу и наряды вам начну наяривать. Мне ж заняться-то больше нечем. Вот, сижу целыми днями прохлаждаюсь. Зачем вам пальто-то? Куда в нем ходить собрались? Туда-сюда? До горшка и обратно? Но шоб в пальте? Или вы замерзли? Так я одеяло дам.
– Куда надо, туда и собралась, – обиделась баба Вера. – Мне недолго осталось, а ты меня обижаешь.
– Да я быстрее вас лягу! Без пальта. Хоть высплюсь наконец.
– Не надо пальто, хоть платье пошей. Мне надо, – требовала баба Вера.
– Баба Вера, вы же уже решили, в чем в гробу хотите лежать! То есть в чем гореть собираетесь. Вон, в шкафу висит наряд. Отутюженный, как вы просили.
– Да при чем здесь мой наряд? Ткани много, перебрать бы. И пошить. Поношу, пока жива еще. Чего зря пропадает? А то я все в старом халате лежу. Некрасиво. И пуговиц у меня много, ты знаешь. Не хочешь мне, так давай девкам пошьем. Или себе что сваргань новенькое. Я ж как умру, ты все выкинешь, в мешок засунешь и снесешь.
– Конечно, выкину, – хмыкала Анжела. – Вот еще тряпки ваши дырявые да молью поеденные хранить! Нечем заняться, сами перебирайте. Вон половую тряпку пора менять. Да на пеленки мало́му, может, чё и сгодится.
– Хорошие у меня ткани, зря ты так. – Баба Вера обиженно поджимала губы.
– Может, сто лет назад и хорошие были. А сейчас наверняка все в пятнах. Если моль все с голодухи не подъела. Вот когда я просила, вы мне их не отдали. А мне нужно было! Даже отрез на свадьбу не подарили. А как я вас просила на постельное белье дать? На занавески! Чё сейчас-то опомнились? Вот и помирайте теперь на своем тряпье. Помрете, даже смотреть не стану, что вы там под кроватью хранили, над чем тряслись. Пуговицы у нее. Да я их в гроб положу, чтобы вместе с вами сгорели. Когда я просила для Ксеньки на платье, вы дали? Нет. А те, жемчужные, над которыми всю жизнь тряслись? Отдайте мне их сейчас, раз такая добренькая.
– Ты продашь, – буркнула баба Вера.
– Конечно, продам. Чтобы хоть спину разогнуть и не горбатиться на вас сутками. Где сыночек ваш с алиментами? Что-то не видно его денежек. Хоть бы копейку, сволочь, дал. Все на баб спускает. А Ксенька, вон, в драных колготках перештопанных, что моя жизнь, ходит.
– Пригодятся еще пуговицы. На черный день.
– Так сколько этих черных дней уже было? Баб Вер, давайте сегодня черный день, а?
– Выжили же, не подохли. Ксеньке отдам пуговицы. На приданое.
– Баба Вера, вы меня сейчас уморите. Какое приданое? Ей жрать нечего! На картохе сидим. Хорошо еще Машкина мать денег оставила. Хоть вспомнили, как мясо выглядит и как бульон мясной пахнет. Баб Вер, дайте хоть одну пуговицу, я вам что хотите пошью. Хоть пальто, хоть трусы шелковые! Я хоть выдохну, жилы на вас рвать перестану. По ночам эту машинку чертову крутить не буду, чтобы лишнюю копейку заработать. Баб Вер, пожалейте меня. Сил совсем нет.
– Не отдам. Мне их моя мать передала. А ей ее бабка. Со своего платья срезала и хранить велела. Этим пуговицам цены нет, – твердо ответила баба Вера.
– Принесли они вам счастья, баб Вер? Те пуговицы? А матери вашей, которая от голода померла во время войны? – Анжела заплакала. Горько и больно. От безысходности.
Баба Вера занялась разбором отрезов самостоятельно. Я была призвана в помощь, поскольку Ксенька приглядывала за младшим братом. Я очень хотела с ней поменяться – мне нравилось нянчиться с малышами. Ксенька тоже была не против, но тетя Анжела нам запретила категорически.
– Нечего! Мне перед твоей матерью отчитываться, – резко ответила она. – Лучше в тряпках с бабкой возись, чем дите таскать, надрываться. С Ксенькой все понятно, а ты, может, и лучшую жизнь узнаешь.
Каждое утро баба Вера вставала с кровати и пересаживалась в кресло. Я вытаскивала из-под ее кровати сундук с сокровищами – ткани, завернутые в обычную газету. Пуговицы в трехлитровых банках, обувных коробках. Ленты, тесьму, нитки разных цветов.
Я разворачивала полотно и замирала от восторга. Баба Вера просила передать ей отрез – она плохо видела, если вообще что-то видела. Проводила рукой по ткани, узнавала даже цвет. Все лоскутки до последнего, которые хранились отдельно, помнила. Чего там только не находилось – жаккард удивительного шоколадного цвета, зеленый благородный бархат, нежный, изысканный шелк. Все аккуратно сложено. Баба Вера рассказывала про каждую ткань – как называется, что из нее можно пошить. Какая ткань лучше на платье, какая на нижнюю юбку или комбинацию, какая только на ночную сорочку сгодится.
Тетя Анжела была права – прекрасный отрез льна пришел в негодность. Остались выцветшие пятна, на сгибах отметины. Нитки если не сгнили, то потеряли цвет. Но многие ткани выглядели настолько прекрасно, что я могла только мечтать о платье или сарафане из такого материала и такого цвета.
Потом мы дошли до лент, тесьмы и кружев. Все ленты, атласные, разной ширины и цветов, были скручены в аккуратные валики и закреплены ниткой. Тесьма и кружева лежали отдельными валиками. Баба Вера объясняла, что эту тесьму можно пустить по подолу, а вот эту вообще жалко использовать – настолько красивая и ценная.
– Вот это кружево от моего свадебного платья, – рассказывала баба Вера, перебирая в руках комок, который я ей передала, – настоящее, французское. С ним нужно очень бережно. Мне не подходило – я наглая и резкая. Ксеньке тоже – ей что поярче надо, как и ее матери. А тебе подойдет – к тебе присмотреться надо, как к этому кружеву. Тогда увидишь красоту. А вот это, с золотой нитью, для Ксеньки сгодится. Дешевое, броское. Пыль в глаза пустить – и ладно.
Мне, конечно, были приятны слова бабы Веры, которая сравнила меня с французским тонким кружевом, но я предпочла бы то, с золотой нитью, и чтобы пыль в глаза.
Пуговиц у бабы Веры оказалось столько, сколько я в жизни не видела.
– Я срезала с платьев и складывала. Всю жизнь, – сказала она, аккуратно поглаживая пуговицы, которые я ей передавала.
Каких там только не было! И обшитые тканью, и железные, совсем крошечные и огромные. Всевозможных размеров и цветов.
– Почему вы их хранили и не… – Я не знала, как правильно спросить.
– Не пришивала?
– Да.
– Не знаю, девочка. Не знаю. Тяжело мы жили, очень тяжело. Вот я и приучилась все хранить, не выбрасывать.
– Тетя Анжела говорит – лучше продать и пожить хорошо. Хотя бы недолго, но в удовольствие. Пусть хоть один день ни в чем себе не отказывать. Моя мама тоже так считает. Вот она сейчас заработает денег, а потом мы в отпуск на море поедем. И она мне два сарафана новых обещала купить и туфли, настоящие, с бантиком, – сказала я.
– А потом ты будешь собирать копейки, потому что на хлеб не хватит, – ответила баба Вера. – Сейчас ты с чужими людьми живешь, чтобы потом один день гулять напропалую. Ради чего мать твоя сейчас убивается? Ради двух сарафанов и туфель? Анжелка такая же. Дошьет заказ, деньги получит и в тот же день все потратит.
– Мама говорит, что в памяти останется тот день, когда мы делали, что хотели. День-праздник.
– Нет, девочка. В твоей памяти останемся мы – я, Анжелка, Ксенька. И твоя жизнь здесь, а тот, счастливый, сотрется напрочь. Даже не вспомнишь, как его провела, – тихо сказала баба Вера.
– Неправда, я все помню, – резко ответила я. Мне хотелось заступиться за маму. Но внутри я знала, что права именно баба Вера. Я не помнила, где мы оказались с мамой после того, как она забрала меня от тети Марины. Не помню, что мама мне купила. А тетю Марину, Лику, Натэлку помню прекрасно. – Почему вы тете Анжеле пуговицу хотя бы одну не отдадите? Вам жалко? Может, она и не сразу все потратит.
– Нет тех пуговиц. Давно нет, – призналась баба Вера. – Квартиру эту на пуговицы построили, сына я вылечила, с того света вытащила, когда он еще младенцем был. Да, мать моя умерла от голода, но я выжила благодаря этим пуговицам. Меня мать к тетке пристроила, чужой, чтобы вырастила как родную. Думаешь, за просто так? По доброте душевной меня чужие люди взяли? Как и тебя, кстати. Твоя мать ведь тоже заплатила Анжелке.
– Почему вы тете Анжеле не скажете? – Мне стало так горько, что я заплакала.
– Ох, девочка, вырастешь, поймешь. Хотя лучше не надо тебе понимать такое. Пока Анжелка бегает, шьет, ругается, пока выживает… она живет. Человек быстро умирает, если ему незачем и не для кого на этом свете оставаться. Все болезни на него сыплются.
– А вы почему не умираете? Вы же ни за кого не отвечаете.
– Так ты мне помешала! – рассмеялась баба Вера. – Только я собралась помирать, так ты здесь появилась. Я ж понимаю ответственность. Не могу тебя пугать, да и не хочу. Вот мать тебя заберет, я и помру спокойно.
* * *Сейчас я веду себя как баба Вера – складываю, припрятываю, откладываю. Точно так же, как она, скатываю ленты в клубок и подшиваю, чтобы они лежали аккуратно, не разматывались. Храню лоскутки в отдельном пакете. Из старого пледа сшила покрывало, на котором удобно гладить. Точно такое же было у тети Анжелы. У меня есть огромная, шикарная гладильная доска, но мне удобнее гладить на этом самодельном покрывале, разложенном на столе.
Там же, у тети Анжелы, я научилась шить. Она доверяла мне удалить наметку, обработать швы, наметать. Я смотрела, как она ловко подворачивает ткань и прострачивает. Как из нескольких кусков выкраивает платье, а остатки пускает на карман. Мне нравилось наблюдать, как она строит выкройку на газете, вырезает, скалывает, примеряет, снова скалывает.
Сейчас я шью с дочкой. Мне не хватает терпения, аккуратности, внимательности. Я шью так, как шила тетя Анжела – быстро, нагло. Нарисовать что-то невнятное на газете, разложить ткань, что-то прочертить мылом, вырезать. Мне проще отрезать и пришить. Неровный шов прикрыть кружевами, а из остатков ткани сделать «богатые» пышные рюши. В стиле «пустить пыль в глаза». Но иногда тетя Анжела шила настоящие шедевры – удивительные платья по фигуре, с идеальными швами, вытачками. Она подолгу корпела над выкройками, требовала от заказчицы бесконечных примерок, подбирала нитки, долго билась над линией талии. Анжела считала эти работы лучшими, но они не всегда нравились заказчицам. Тетя Анжела плакала над машинкой и рвала газетные выкройки. Она была настоящим модельером, талантливым безусловно, но местная жизнь требовала навыков ремесленника – подшить, надставить, припустить. Ее талант здесь не требовался. Никто его не понимал и не ценил.
– На хлеб всегда заработаешь, – говорила тетя Анжела, выдавая мне старое платье или костюм, требовавшие переделки. Я должна была распороть все швы, разгладить ткань.
До сих пор ей благодарна за этот навык. Тогда я поняла, что шитьем на хлеб заработаешь всегда. А даже если не заработаешь, то выживешь точно. Оказавшись в очередной новой школе, я каждый день вспоминала тетю Анжелу. Пока остальные девочки строили выкройку фартука или юбки-солнце и учились справляться с механической машинкой, я бойко шила наволочки и пододеяльники. Учительница труда взяла меня под свою опеку – я шила комплекты постельного белья, которые она продавала на местном рынке. Иногда мне перепадала небольшая денежка с выручки. Иногда неожиданная «пятерка» в четверти по математике. У математички дочь училась в выпускном классе, а наша трудовичка шила ей платье.
Я не шила много лет. Не было желания. Да и необходимости тоже, слава богу. До тех пор, пока моя дочь не попросила у Деда Мороза в подарок швейную машинку. И тогда я вспомнила все. Я учила дочь шить салфетки, ночные рубашки, украшенные кружевом. Сарафаны на завязках, юбки-солнце, фартуки. Я тащила ее в магазин тканей и ходила по рядам, трогала, гладила шелк, фатин, тафту, ситец. Рассказывала дочери, какая ткань для чего предназначена. Вспоминала бабу Веру, которая раскладывала на коленях отрез и наслаждалась тактильными ощущениями. Дочь смотрела на меня выпученными глазами – она не знала, даже не подозревала, что я умею шить.
Как мой муж не мог даже предположить, что я умею играть на фортепиано, пока я не купила для сына пианино – современное, электронное. Как многие дети, окончившие музыкальную школу, я больше не подходила к инструменту. Закрыла крышку на много лет. И лишь когда у меня появились дети, снова начала играть – показывать, как ходит мишка, как бегает зайчик. Играла «В лесу родилась елочка» и рождественские колядки. Зачем нужны навыки и умения, полученные в детстве? Те, что, кажется, никогда не пригодятся в жизни? Забытые, потерянные в глубинах памяти? Когда появляются дети, вы не можете предсказать, что именно вызовет их восторг и уважение. Пригодятся даже жонглирование мандаринами, собачий вальс, исполненный двумя пальцами, и три «блатных» аккорда на гитаре, которые показал Пашка из десятого «Б». Не говоря уже о сокровенном знании про косую бейку.
Именно там, в семье тети Анжелы, я вдруг поняла, что проблемы, радости, горести у всех одни. Бабушка Соня и бабушка Вера, тетя Марина и тетя Анжела, Натэлка и Ксенька. Все были по-своему сумасшедшими, странными, но в то же время добрыми и открытыми. Все матери хотели прокормить своих детей, поставить их на ноги. Старики боялись остаться одни. Мужчины появлялись, исчезали, «делали нервы» или ничего не делали. Я вдруг перестала бояться – переездов, новой школы, учителей, новой семьи, в которой оказалась. Ведь мой дом был во мне.
Даже города, поселки, села, географически противоположные, оказывались похожи один на другой – вот что я вдруг осознала. Я могла с закрытыми глазами свернуть на нужную дорогу, найти здание школы, ближайший магазин, рыночек. Я узнала главное правило – не верь своим глазам. Особенно официальным табличкам. Лучше спросить у местных жителей. Мамина мятежная натура и ее способность сбежать в один день не пойми куда и не пойми зачем научили меня не теряться в новых местах. Заводить знакомства, разговаривать, спрашивать. Я была типичным интровертом, люди меня пугали. Но это, оказывается, лечится.



