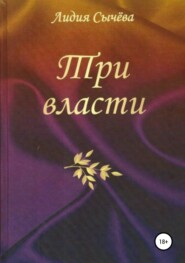скачать книгу бесплатно
Три власти. Сборник рассказов
Лидия Сычева
В чем тайна загадочной русской души? Может быть, в том, что ею владеют не одна, а целых три власти? Новая книга Лидии Сычевой – это вдохновенный и честный рассказ о поисках счастья, любви, красоты, гармонии и справедливости. Жаль, что не все дороги ведут к истине, а жизнь так трагична и коротка… За эту книгу автор удостоен Международной литературной премии им. Антона Дельвига (2013) и Большой литературной премии России (2017).
Звёздные ночи в июле
Три власти
Ветреный, сизый вечер. Осень, стынь. И всюду – свинцовый цвет: в низко насупленном небе, в брусчатке Красной площади, в решетках Александровского сада, в шинелях ладных и вежливых военных, что проверяют документы у Троицких ворот.
Сергей спрятал паспорт во внутренний карман пиджака, и не спеша – время у него было – зашагал по мосту, ведущему в Кремль. Он остро досадовал на себя, на свою неловкость, непривычность к подобным процедурам – был он, кажется, слишком суетлив, когда подавал документ и приглашение в конверте, напечатанное на отличной, очень плотной бумаге цвета топлёного молока: «Уважаемый… Имеем честь… Будем рады видеть Вас на приеме… Сбор гостей…» Впрочем, другие приглашенные, как он заметил, тоже чуть волновались, нервничали. Сердце его билось радостно, беспокойно – будто в ожидании чуда, которое обязательно должно с ним сегодня произойти.
Сумерки быстро сгущались. Он миновал куб из стекла и бетона – здание Дворца Съездов – и, повинуясь интуиции (спросить не у кого, другие гости давно его обогнали, да и стыдно было бы признать себя новичком), повернул направо. Дул резкий, пронизывающий ветер, было зябко, словно ранним утром, когда из тёплого дома выходишь на неприветливую улицу. Тьму пространства разрезали толстые, мощные лучи прожекторов. Свет падал мягкий, тёпло-золотистый. Ноги сами вели его в нужном направлении – и Сергей вдруг узнал, угадал Соборную площадь, столько раз виденную им в учебниках истории, в документальной хронике и даже в кино.
Он оказался один, совершенно один, на этом небольшом квадратике кремлёвской земли, стеснённой древними соборами, где, как он помнил, покоились древние государи земли русской.
Ветер внезапно стих, контуры храмов темными громадами вырисовывались в небе, и что-то таинственное, древнее, грозное, много больше, чем человеческая жизнь, неожиданно явилось перед ним.
Сергей ошеломлённо сделал несколько шагов и, наконец, застыл в центре площади. И вдруг он со страхом, а после с ликованием услышал, как бьется сердце великой страны. Он мог поклясться – эти глухие, размеренно-тяжелые удары доносились из тьмы веков; они были могуче-основательными, глубинными, но – он повел плечами, так жутко ему стало – иногда будто замирали, пропадали, и всё равно услышанные тоны казалось величественным, прекрасными. Глаза его мгновенно стали влажными.
Он был, конечно, взвинчен, взволнован, восприятие его было слишком нервным, острым; Боже мой, вихрем пронеслось в его голове, неужели, ощутив то, что сейчас почувствовал он, можно чего-то бояться?! В смысле – бояться умереть, пострадать за это великое сердце, чтобы оно билось дальше и дальше, всегда?!
Ему казалось, что он мчится на лыжах с огромной горы, и душа его трепещет – он должен сейчас разбиться, погибнуть, но он всё летел и летел; так вот, успевал он думать, неужели почувствовав свою призванностъ владеть и властвовать, можно ещё чего-то хотеть?! Смешными в этот миг – вроде детских игрушек – казались ему мирские сокровища: дворцы, яхты, счета в банках, экзотические острова. Все они будто лежали у его ног, а он предпочёл им вечность… Он вдруг почувствовал себя Иваном Грозным, Македонским, Цезарем и ему казалось, что это он правил настоящим, прошлым и будущим разноплеменной империи.
Перед тем, как пройти в зал приёма, нужно было зарегистрироваться у симпатичных молодых людей (они называли номер столика, Сергею достался 21-й), и этот церемониал собрал даже небольшую очередь – человек в 10–15. От резкого запаха стойких духов, от чужих обостренных энергий, которыми, казалось, была переполнена атмосфера просторного и роскошного помещения, у него закружилась голова. Сергей старался, чтобы взгляд его не был пристальным, он чувствовал в себе особую собранность, ясность и чёткость в движениях, которая когда-то появлялась у него перед горнолыжными соревнованиями (теперь он забросил спорт – жаль, конечно). Он пытался смотреть мягко, вести себя раскованно, естественно, но был напряжен и видел то, на что в обычные дни совсем не обращал внимания.
Были здесь дамы после сорока, одетые по-женски, но с такими закаменевшими лицами, что он понял – множество государственных или деловых обязанностей давно поглотили их пол, и они даже не подозревают о радостях физической любви; были богачи, миллионеры (или даже миллиардеры), они вели себя как завсегдатаи, их «статус» выдавали не бриллиантовые запонки, а многолетняя привычка к дорогой одежде и «светскость», с которой они вели беседы с себе подобными; были растерянные новички со свежими, как правило, плохими прическами и неуклюжими нарядами; были чиновники – «кувшинные рыльца» – от сидячей работы у них сильно обвисала та часть тела, откуда растут ноги, странно, что таких физических явлений не наблюдается, допустим, у водителей автобусов, подумал Сергей; были здесь и иностранцы – с авангардизмом в одежде и чувством глубокой растерянности и непонимания на лицах, они фотографировали интерьеры на мобильные телефоны, и никто не останавливал, не мешал им.
Сергей мучительно узнавал лица, что когда-то видел по телевизору: образы – экранный и реальный – сильно разнились. На прием пригласили и трёх его коллег – учёных-физиков, но это были «мэтры», светила, к которым он никогда бы не решился подойти. Они смотрели на происходящее без всякого ликования, скорее устало, будто пришли не в Кремль, а на очередное заседание кафедры, и это удивляло, ранило Сергея.
Наконец всех пригласили в Георгиевский зал. Высоко, на балконе, оркестр играл классическую музыку, сияла позолота, официанты в белых перчатках скромно стояли у стены. Стол Сергея был почти рядом с «президиумом», но вместо Первого лица прием открыл малоизвестный человек из администрации, с некрасивым телом, которое не скрывал дорогой костюм, с ассиметричным, неприятным лицом. Он говорил в микрофон простые, обыденные слова, явно стараясь понравиться собравшимся, и его речь усиливала акустика сводчатого потолка (новички всё озирались вокруг, созерцая кремлёвское великолепие). Сергей внимательно вслушивался в «послание»: может быть, вещал человечек, облеченный властью, жить следует для того, чтобы однажды оказаться в этом зале… Слова перевирали, переворачивали вверх тормашками то чувство, которое Сергей испытал на Соборной площади и ему стало остро-больно. «Не так, не так!» – упрямо шевелил он губами.
Бело-золотой зал, белые скатерти, белая посуда, белые стулья. И – сияние хрусталя в огромных люстрах, в резных бокалах. За столом – они постепенно все познакомились – оказались несколько сотрудников МИДа (это были обычные протокольные люди с брюшками, может быть, в юности за рубеж их звала не романтика дальних странствий, а возможность купить вне очереди шкаф или машину, – думал Сергей), были и «простые смертные» – молодой наивный парень, лауреат конкурса «Учитель года»; пожилой сельский врач, тоже с заслугами; скромная, с узкими плечами, девушка-виолончелистка, стипендиатка фонда «Надежды России». Были и две немки – кажется, бизнесменши. Одна из них постоянно улыбалась, похоже, она не прочь была завести знакомство с загадочными русскими, другая – задорная, лохматая, напоминала ласкового мопсика. Они не знали языка, но мидовцы перевели – дамы предложили, когда наступила их очередь произносить тост, выпить «за этот великолепный зал». Официанты подливали вино в бокалы (крепких напитков не подавали); «Прекрасное Бордо!» – несколько раз повторил, качая головой, один из дипломатов. Учитель года, родом, кажется, из Вязников, листал меню (на двух языках, несколько страниц кремовой бумаги наподобие грамотки было скреплено витой золотой веревочкой) и тихонько ахал: «Камчатские крабы с муссом из авокадо… Филе бранзины с овощным ризотто в соусе «шампань»…» Сергею, несмотря на «прекрасное Бордо», стало грустно. Он почти ничего не пил, не ел.
Потом был концерт. На небольших подмостках пела крупная женщина, сильно декольтированная, у неё были густые и пышные чёрные волосы, на ослепительно-белых её ключицах – таких нежных и сильных – замечательно блистали тёмно-коричневые камни колье, и платье тоже было насыщенного, тёмно-коричневого цвета. У неё был партнёр, учтивый пожилой баритон с круглым и мягким голосом, и когда он пел, то чувствовалось, что он знает все возможности своего «инструмента», голос его слушался, и казалось, что солист управляет знакомой, хорошо объезженной лошадью и давно уже не ждёт от неё никаких неожиданностей.
Холёный конферансье, скрывающий за безупречными манерами лёгкое пренебрежение к собравшимся, объявил очередной номер. Женщина в декольте осталась одна. И с первых звуков знакомого, многократно слышанного романса, время будто замедлилось, стало глубже, и с каждым новым словом поток иного мира, иной жизни, всё сильней захватывал Сергея. Он вдруг забыл, где он, что он… Он слышал только историю любви, которую рассказывала ему певица, и чуть не заплакал от переживаемого потрясения – в её голосе была большая и трагическая власть, и странно было чувствовать эту волю и силу от обычной, в общем-то, женщины. В сознании его мелькнула Соборная площадь; как же так, мысленно удивился он – за певицей не было ни тысячелетней Руси, ни космических войск, ни глухих закоулков сумрачной страны с полуразрушенными избами. Был только её дар, её голос, простой смертной женщины, но в эти минуты он готов был стать перед ней на колени. Он не мог оторвать от неё глаз – на певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить это божественный голос, в котором тонуло его сердце. Он подумал: неужели где-то есть мор, голод, болезнь; несчастье, смерть, безденежье; только красота, чистота, только эта райская музыка напоминала о том, что есть на свете страдание, но и страдание было неземным, возвышенным – женщина пела об угасающей неразделённой любви. Она пела… Неужели это что-то изменило в мире, что-то качнуло, сдвинуло в душах людей?!
Под впечатлением музыки он быстро и нервно шагал по Троицкому мосту; власть трагического и покоряющего искусства захватила его совершенно, целиком.
Он вошел в подземный переход, ведущий к метро, пахнуло спертым, несвежим воздухом, и он внутренне сжался, закаменел, предчувствуя встречу с обыденной и горькой жизнью: нищими старухами, что, трясясь от болезней и старости, будут просить сейчас деньги на жизнь, калеками, которые, шокируя жуткими увечьями, собирают средства на протезы, бомжами, выглядывающими из-за тёмных киосков как существа иного, потустороннего мира.
Но в переходе было пустынно, малолюдно, и только лысый музыкант играл на скрипке «Полонез Огинского»; играл привычно, «заезжено», одной техникой, думая, наверное, о чём-то другом, а не о «прощании с родиной». Сергей поспешил мимо, чтобы не растерять своего настроения, как вдруг заметил мальчика, может быть, лет пятнадцати, который чуть в стороне потрясенно слушал скрипача.
Это был обыкновенный, русый подросток, с простым, румяным лицом. Глаза его блестели, рот полуоткрылся в удивлении. Вся гамма чувств – от высокой печали до возвышенной радости – тенью пробегала по его лицу, в руках мальчишка судорожно мял чёрную вязаную шапчонку, которую стащил с головы. «Как в храме», – подумал Сергей.
И вдруг он понял, угадал, что мальчик впервые в жизни слышит эту музыку, и ему стало нестерпимо жаль эту обворованную душу; а потом он остро позавидовал его радости, его потрясению и благодарно взглянул на скрипача.
После чопорно-богатого, сияющего позолотой зала приемов, метро и люди в нём казались Сергею припорошенными угольной пылью. Все они были одеты будто в робы – в чёрные, большей частью, одежды, лица их виделись определенными и грубыми, наполненными внутренним отчаянием. В глаза бросилась застарелая вагонная грязь, а реклама вдруг поразила запредельным убожеством и крикливостью. Он с удивлением, по-новому, взглянул на картинки, где улыбающиеся девицы предлагали майонез, толстяки в очках – кредиты, семейка с оскаленными зубами – бульонные кубики. Ему стало страшно – все эти рекламные образы хотели разорвать его, засосать внутрь своих торговых сетей, использовать и выбросить. Сергей зябко повёл плечами. Он с сожалением оглянулся вокруг, нет, никто из пассажиров не замечал опасности! Народ устало дремал или читал лживые газеты или некрасивые, дешевые книги. Вагон чуть покачивался, гремел, стучал… И вдруг он увидел, узнал, сначала радостно, потом разочарованно, а после уже восхищенно – женщину, которая только что пела в Кремле.
Она ничем не выделялась среди обитателей метро – джинсы, короткая чёрная куртка с капюшоном. Он смотрел и не мог оторвать взгляда: она была не роковая красавица, а почти дурнушка, с круглым, простым лицом; но он-то знал её власть и силу, знал её право покорять – с первых звуков, тактов; и теперь он был сражен её будним преображением, но оттого она стала ему ещё дороже, родней. Она принадлежала этим людям, «припорошенным пылью», этому грязному вагону, залепленному уродливой рекламой, и было в этом что-то трогательно-возвышенное, настоящее. Рядом с ней стоял пожилой баритон, её партнёр, они говорили, и по выражению их лиц Сергей понял, догадался – они не только хорошо понимали друг друга, они – любили. Они вышли на следующей остановке, что-то негромко обсуждая, и двинулись рядом, близко, и в этом было много тайного и радостного.
…Да, была ещё одна власть – власть любви (наутро он думал об этом), и вдруг он понял, что она, любовь обыденная, мирская, для него ничего не значит по сравнению с той глубинной властью, которую он ощутил вчера. В России возможно только самодержавие, он почувствовал это явно, сильно и знал, что если бы ему принадлежала такая власть, он не отдал бы её никогда, никому.
Сергей вышел на улицу. День было пронзительно-солнечный, и после холодной ночи ярко голубело небо, по чёрным тротуарам тут и там лежали огромные кленовые листья, оранжевые, жаркие. Природа словно на время отодвинула громаду города, и главным сегодня было это слепящее солнце, эти удивительно белые, огромные, будто надутые изнутри, кучевые облака, эти стойкие стройные клёны, трепещущие в предчувствии неизбежной зимы.
Потом он быстро шел, потом почти бежал – легко, не чуя под собой ног – на свидание, потом он любил и целовал женщину, которую давно, страстно и мучительно желал; и после, когда они шли рядом, сидели в кафе, когда говорили и не могли наговориться, и когда он с радостью и приязнью снова и снова смотрел в её глаза, и слушал её признания, он вдруг подумал, что все царства мира, все венцы кесарей он бы сейчас отдал за то, чтобы никогда, ни на минуту не разлучаться с ней. Он, волнуясь, высказал это ей вслух, а она улыбалась, качала головой, гладила его по руке, и говорила, что не верит…
Звёздные ночи в июле
– Пожалуйста, сюда, Андрей Георгиевич, – нервнооживленно приглашала его молоденькая тележурналистка. Угрюмые малые ставили свет, оператор с богемной бородкой укреплял камеру на штативе.
Браташов смиренно, всем своим видом показывая: «Что поделаешь, я в вашей воле», – подчинялся командам. Журналистка (Елизавета Зингер или Дингер, он не расслышал) была скорее стильной, чем красивой – искусно накрашенная, худощавого сложения, в одежде, которая напрочь скрывала наличие каких бы то ни было форм – если они, конечно, имелись. Браташов знал силу своего обаяния и одарил это юное созданье долгим внимательным взглядом – он уважал телевидение, и всегда с особым тщанием относился к подобным съемкам. Даже небольшой сюжет, мелькнувший в новостях, может решить многое.
С детства у Браташова было хорошо развито боковое зрение, и сейчас он видел, как после его взгляда еще нервнее и лихорадочнее стали движения Елизаветы Зингер-Дингер, она засуетилась, заспешила, расставляя меланхоличных и молчаливых осветителей, которые всем своим видом говорили: «А нам всё по фигу. Нам что шкафы, что софиты, что бомжи, что киношники. Гоните бабки – у вас вечно обслуживающий персонал в пролете». Браташову нравились угрюмость и неспешность, с коими эти малые двигались по площадке… Он подумал: не подбодрить ли ему девушку еще одним лучезарным взором, но решил, что это будет уж слишком щедрым авансом с его стороны. «Потом. После съемки», – дал он себе задание, и чуть прикрыл, якобы от слепящего света, глаза.
Нынче утром, разглядывая себя в зеркало, он усмехнулся: «Достиг верховной власти я». Браташов стал фигурой номер один в отечественном кино – по степени влияния, популярности и по масштабам новых проектов. Он нравился себе – в шестьдесят у него было крепкое, сбитое, мускулистое тело, не отягощенное излишним жировым запасом, у него – загорелое лицо голливудского героя-любовника, частокол собственных (а не вставных) зубов, спрятанных за густыми усами с проседью и внимательные глаза со счастливым свойством – их цвет мог меняться в зависимости от настроения… Сейчас они были серыми с искрами – признак здоровья и довольства собой. Браташов облачился в светлую хлопчатобумажную пару, босыми ногами забрался в мягкие мокасины – это по новейшей московской моде. В задумчивости он провел рукой по лбу, плавно переходящем в лысину – она его тоже красила, будучи знаком многодумья и любви к размышлительности. На мизинце ярко сверкнул крупный перстень с бриллиантом – Браташов носил его не из-за любви к драгоценностям, а как символ власти и состоятельности. Он привык режиссировать свою жизнь и всегда себя видел как бы со стороны, глазами потенциального «зрителя». И сейчас этот кадр – известный кинодеятель у зеркала – ему нравился.
– Приступим, – заискивающе сказала Зингер-Дингер, и он ей поощряюще кивнул. Интерьеры, где велась съемка, были затянуты мешковиной – стол-куб, пара кресел, боковые навесные панели, создающие некое подобие стен. Тележурналистка присела на самый краешек мешочного кресла и сцепила руки так, что у нее побелели пальцы. Браташов направил на камеру взгляд бесконечно уверенного и преуспевающего человека – глаза его были ровно-синие. Хорошо поставленным голосом (спасибо ГИТИСу в молодости), внятными, доступными народу фразами, он стал говорить о состоянии отечественного кино, о трудностях творческого процесса и о национальной идее, которая так необходима России. А суть идеи проста – каждому нужно много и терпеливо работать на своем месте.
– А сейчас, – бодро присоединилась к нему журналистка, – Андрей Георгиевич в честь открытия нового кинокомплекса с двенадцатью залами задует свечи на праздничном торте.
Двое молодцев в поварской униформе внесли аляповатое произведение кулинарного искусства в виде гигантского средневекового замка (или коттеджа нового русского). Сооружение – тут и там – было утыкано витыми свечками. Браташов, обаятельно улыбаясь, изображая радость именинника, «выполнил почетную миссию»…
В нижнее, «демократическое» кафе кинокомплекса он спустился со своим коммерческим директором. Тут не было элитной мешковины и кресел, народ теснился за красными пластиковыми столикими, прихлебывал дрянной кофе из бумажных стаканчиков, который бесплатно разносили всем желающим симпатичные молоденькие девчонки-официантки (шла очередная рекламная акция). Браташов неспешно тянул «фирменный» кофе, слушал и не слушал нудный бубнеж Владика про новый проект. Вкус суррогатного напитка вдруг вернул его в голодную и такую далекую теперь юность, и он вспомнил то, к чему давно уже не возвращалась его память. Мальчиком он смотрел кино на летней площадке, вечером экран натягивали между стволами засохших деревьев. Билет стоил 50 копеек. Или нет, двадцать. Впрочем, если опоздать, прийти на 10–15 минут позже, то вообще можно было обойтись без денег – площадка не была огорожена.
Он ездил сюда, на «Хамловку», на велосипеде. Как давно это было – совсем в другой жизни, – поразился вдруг Браташов. Этот городишко – Славкино – был страшно далеко от Москвы, а он – ещё дальше от своей нынешней «верховной власти». Ну вот, что-то он делал, чего-то желал, бегал в угаре, и очнулся уже в нынешнем своем состоянии, а те мальчики, что гоняли вместе с ним на великах, позже служили в армии (в ракетных войсках), учились в ГИТИСе, они почему-то так и остались в тех своих стоячих скучных жизнях… Застыли верстовыми столбиками в его памяти. А он уехал, умчался далеко-далеко от них – приятелей детства, бедной юности и честолюбивой молодости. Думы эти взволновали Браташова. Он почему-то именно сейчас понял – ну, не одними же личными заслугами и талантами двигалась его жизнь?! Кто-то нес его на своих крыльях, оберегая от слишком чувствительных ударов судьбы, отводя от дурных и подлых людей, направляя к кратчайшей тропинке-восхождению, которую, наверное, видел только он – темно-серыми в тоске глазами… Положа руку на сердце, он вовсе и не считал себя гением. Ну, талантливый, ну, не жадный. Всегда умел ладить с людьми – не заискивая, женился на москвичке (по любви), тесть – влиятельнейший туз тогдашнего кино…
– Андрей Георгия, можно с Вами сфотографироваться? – две девушки, трепеща от волнения, стояли рядом. Вопрошала та, что побойчее, страшненькая от неудачно наложенного грима, косметики то есть. Браташов понимающе кивнул, Владик осчастливил девушек, щелкнув «мыльницей». А между столиков уже пробиралась дама бальзаковского возраста с эффектным цветным платком на голове, давно и безнадежно влюбленная в Браташова. «Вы гениальный режиссер. Вы такой актер, которому нет равных не то, что у нас, но и в Европе, не говоря уж о Голливуде с их примитивными штамповками», – он морщился от этой суперлести, дама была ему неприятна – у нее был дар все его действительные заслуги преуменьшать неумеренным восхвалением. Браташов оставил Владика на расправу фанатке, а сам позорно бежал через служебный вход.
Серебристый «Мерседес» мчал его за город, домой, в коттеджный поселок «Яблонево» – к чистому воздуху, воде, тишине и лесу, а также к круглосуточной охране на въезде и элитным соседям из мира серьезного бизнеса и больших денег. Судьба наградила его не только известностью, но и состоянием. Бедности он не знал и боялся её. Беда – да, творческие муки – да, но унизительную тень нищеты он чувствовал только в детстве.
Браташов прокручивал в голове эпизод с нынешней телесъемкой. «Мне неинтересны люди неверующие», – это он, хорошо, пожалуй, завернул. А вот: «Все устали от разговоров, пора делать дело, это и есть наша национальная идея», – похоже, несколько топорно, даже для сегодняшнего ТВ… У него была давняя, укоренившаяся с юности привычка – анализировать прожитый день, и теперь иногда ему начинало казаться, что он не живет, а смотрит про себя кино. Фильм о буднях делового человека, давно уже не принадлежащего себе. Лента, поставленная всемогущим Главным Режиссером. А у него, героя этого кино, кажется, почти не было прав на импровизацию в «кадре»…
В дороге легко думается, и ему вдруг пришла мысль о том, что мафиози, ставший впоследствии легальным бизнесменом, или военный преступник через 20 лет после совершенных злодеяний, становятся совсем другими людьми, а тех, прежних, нет. Наказание, если оно не настигло человека вовремя, спустя годы уже не имеет ни смысла, ни силы. Он, Браташов маленький, и он, Браташов нынешний, – совсем разные люди. И от этого открытия ему почему-то стало горестно.
Почему же? Мысль его заработала напряженно. Преступление, да, преступление, – это было ключевым словом в надвигающемся размышлении, и оно как-то связывалось с его жизнью, и с тем обыденным, что происходило сегодня. Он невольно поморщился. Ну, открыл новый киноцентр. Не храм искусства, и не мастерскую, и даже не советский «общепит» – а так, «фаст-фуд». «Быстрая еда», мгновенные эмоции. Ничего вечного. Впрочем, может в этом и есть высшая мудрость жизни?! Браташов усмехнулся той спасительной лазейке, которую предлагал ему разум. Нет, он, конечно, «не орел», но и не такой уж трус, чтобы оправдывать себя за явную подлость. Но об этом потом, потом… Когда полетел Гагарин, ему было восемнадцать, страна отправляла ракеты в космос, строила города. Теперь «малые предприятия» выпускают пластмассовые безделушки, мэры открывают ларьки, деятели искусств – он вспомнил себя сегодня – торговые центры. Что-то главное замутилось, исчезло. Искусство украдено.
Но при чем тут он, Браташов? «А кто же?» – услужливо и ехидно ответил «закадровый» голос. Не ребята же с Хамловки? Кто-то честно спился, кто-то помер, кто-то тихо жил в своей маленькой жизни. Они – «простые люди». А Браташов, такой же обычный и смертный, должен был грести «против течения», бороться и жертвовать, не жалеть себя ради других. Ради этих «простых», которые прожигали жизнь в доступных удовольствиях. А у него – «долг», «самоограничение», «идея». И в утешение – дар, талант, энергия. Много в нем было сил, данных ему неизвестно кем и неизвестно для чего.
Он шел к своей нынешней «верховной власти» – тут Браташов поморщился от воспоминаний – нет, не по трупам, конечно, а от компромисса к компромиссу, меняя талант на видимые личные блага. Ну, так вышло, так сложилось. Плетью обуха не перешибешь, стенкой лба не пробьешь, Москва слезам не верит – народная мудрость. Расчетливо менял, и не все «оптом», а по капельке. И все равно главный смысл утратился, ушел. Незаметно, но прочно и навсегда. По иронии судьбы, это случилось одновременно с распадом страны. С тех пор Браташов жил по инерции, «деловыми интересами», удачно присосавшись (ну, перед самим собой чего хитрить!) к нынешнему строю. Изображая из себя величину перед Зингер-Дингер…
Но он-то знал, что если бы его дар состоялся до конца, то действительность вокруг была бы совершенно иной!.. Браташов никогда не придавал «своей жизни в искусстве» вселенского значения. Нет, о другом шла речь! Тонкая настройка души сбилась. Он по-иному видел, чувствовал, говорил. Мир исказился в его восприятии – «на входе», а «на выходе» он только множил «кривые зеркала», обманывая себя и других. И это – «фабрика грёз»?! Жизнь так коротка, и люди думают, что когда они набивают ее всякой чепухой – погоня за бытовыми удобствами, комфортом, изысканными блюдами, ощущением богатства, машинами, дорогами домами – этим самым они и ловят жизнь за хвост. Но это заблуждение. Жизнь дана для чего-то более существенного. И это главное у Браташова было. Когда-то…
А впрочем, наша убежденность в чем-то – просто весьма высокая степень заблуждения. (Почему-то в самые тяжелые, безотрадные минуты жизни именно эта мысль настойчиво преследовала Браташова.) В состоянии убежденности у человека есть точка опоры, посох, с помощью которого он идет по болоту жизни. И вдруг – посох выпадает из рук… Так кто же прав: те, кто убеждены, или те, кто во всем сомневается?! Или те, кто вообще не дает себе труда думать?
…Браташов смотрел на мелькающие в окне закатное небо – в Москве стояли «белые ночи», и в начале двенадцатого было еще светло. Синие тучи с багровыми поленьями зари ужасно стояли у горизонта. Почему-то, когда он видел такое небо, ему было страшно, тревожно. Ему всегда было страшно и тревожно, когда он выходил после просмотра плохого фильма. Ему не хотелось жить. И он недоумевал: как же другие этого не ощущают?! Как они могут смеяться, шутить – будто ничего не произошло?! И это было единственное чувство, теперь связывающее его с детством. Правда, когда он был мальчишкой, у него не было нынешних обязанностей – досматривать бред больных душ до конца. Он прыгал на велик (предмет неоднократных насмешек сверстников, рама машины была скроена по «женскому» образцу) и гнал в ночи, гнал, свободный и счастливый, куда глаза глядят. И всё забывалось, и небо было высоким и звездным, и много было жизни впереди, много тайн и открытий. И там, на далекой Хамловке, он никогда не видел такого страшного – с горящими поленьями далекой зари – неба. Зарезанный закат. Браташов поднял тонированные стекла, закрыл глаза. «Мерседес» мягко летел по совершенно пустой трассе…
Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом
Мне хотелось остановить время и задержаться в этом милом городе (а для кого-то он был «дырой», «обыденностью»), здесь, где так горько пахло у озера тополиной корой, где тихо трепетали берёзы, нашептывая будущее, где были тёплые скамейки (на каждую из них я садилась, чтобы запомнить увиденное). Этот собачий брёх, петушиные перепевы по утрам, комариные ночи, тёмные срубы старых домов, кирпичные цеха дореволюционных фабрик, блеск ещё теплой, ласковой воды, бегущей на берег мелкими рыжими волнами, эта изнурительно-длинная служба в высоком храме, где по потолку идут Св. Иоаким и Св. Анна – мудрость и молодость… Так я возвращалась к себе, к той жизни, которой я должна была бы жить.
Этот старинный город был озарен моей зрелостью, ушедшей молодостью и моим чувством к тебе. Меня удивляли здешние дома – особо статные, с глазастыми окнами, высокими крышами (на одной из них кудрявым чубом вился хмель). Новые дома уступали старым в статности, дело было в пропорциях, в том невидимом глазу чуть-чуть, что придавало давним постройкам особо горделивый, подтянутый вид.
Здесь были широкие, с высокими деревьями – тополями, клёнами, липами, березами – улицы, которые носили революционные имена: Интернациональная, Октябрьская, Каляевская, Калинина, К. Маркса.
В старом дворе, рядом с оградой храма, у ржавого детского грибка (песок никем не тронут) седой задумчивый мужчина играл в шахматы. Вчера он бился с молодым парнем, сегодня – со своим сверстником. Огромная овчарка лежала на боку, лениво наблюдала за мудрёной игрой. Думала, наверное: до чего же вы глупый народ, люди!
Ехала я сюда на электричке. Три женщины, давно и хорошо знакомые друг с другом, читали газету бесплатных объявлений: требуется встречающий швейцар у ресторана, работа 12 часов (час работы, час отдыха), сутки через двое; форма выдается.
– Зимой будешь стоять в мини-юбке, замёрзнешь, отморозишь бебехи…
– А я под колготки гамаши надену, с начёсом…
– Да кому ты с начёсами нужна, им подавай голые коленки…
– Ха-ха-ха!
Это были красивые, циничные от пережитых бед женщины – с горьким выражением глаз, с морщинками у губ. В них была особенная уверенность, какая бывает у людей, рассчитывающих только на себя…
Солнце светило высоко, ярко, пуста была дорога (праздник), только по просёлочной колее трясся в одноколке мужик – везла его белая лошадка, да рыжая хромая собачонка прибилась ко мне (может быть, ждала подаяния).
Мне было грустно от дум, и солнечно – так высоко и славно светило солнце, так широко и щедро разбрасывало оно свои лучи по всей округе. Я словно возвратилась в юность – и всё вспоминалось мне мелкое, обрывочное, несущественное, будто это была чужая, а не моя жизнь. Как приземист и невысок сосновый лес, насаженный когда-то для укрепления песков, как спокойны вдали меловые горы, обещающие за своими спинами иную, романтическую даль… И ничуть не мешая этому возвышенно-грустному настроению, в кармане затренькал мобильный телефон.
Это звонил ты. Мне было так хорошо, будто ты был рядом, держал меня за руку, и нам не о чем было говорить – всё и так чувствовалось, понималось… Густой звук твоего голоса поил моё сердце любовью, и она, любовь, словно охватывала всю округу – через меня, в сердце которой пела твоя мелодия. Боже мой, подумала я, да есть ли кого такая красота, как есть она у меня?!
…Последняя моя работа называлась «Москвичи». Я увидела эту картину в жизни – всю композицию – не прибавить, не убавить. На автобусной остановке, под железным козырьком сидели два кавказца. Один грузный, небритый, рубашка на животе в том месте, где она заправлялась в брюки, разошлась, так что видно было волосатое тело – смуглое, будто грязное. Второй кавказец был среднего сложения, тоже небрежно одет – стоптанные туфли, «немнущиеся» брюки, дешевая ковбойка. Они грызли семечки – у ног уже была изрядная куча шелухи. Лица их не отражали никакой мысли – только тупую усталость и занятость механической работой лущения семечек. Видно было, что они недавно – вчера, допустим – пили и выпили много, глаза их были в мешках, складках.
Здесь же, на скамейке, на краешке сидел коренной москвич, человек, судя по всему, интеллигентной профессии – изможденное, издуманное лицо, очки; он был предпенсионного возраста и, похоже, сумасшедший – что-то бубнил себе под нос, шевелил бескровными губами. Он был бледен, слаб и хрупок. У его ног стояла хозяйственная сумка на колёсиках – старая, от перестроечных времен, когда возникали перебои с продуктами. А чуть поодаль – огромная урна, доверху набитая мусором – пакеты от чипсов, пивные банки, оберточная бумага, россыпь окурков…
Хромой голубь, «птица мира», пятясь и остерегаясь, пытался подобраться к шелухе от семечек. Но кавказцы не обращали на него внимания. Они вообще ни о чем не думали. Просто сидели в центре скамейки и грызли семечки. А с краю, у мусорного бака, жался сумасшедший москвич. Возможно, подумала я тогда, мысленно усмехнувшись, передо мной – бывший человек искусства…
Но если забыть про то, что было, оставить то, что есть сегодня… Эту сизую дымчатую гладь озера, живописные фабричные развалины с двумя трубами, а вдали – чистый белый пляж (голуби над ним сегодня летали чайками, с морским «замахом»)…
Ну какой я художник? Смешно. Но должна же я быть тебе чем-то интересна.
Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет душу мне…
Две женщины-фифочки, в розовом, обеим за сорок, в просторных одеждах, ребенок при них (чья-то внучка) пили на скамейке «Путинку». Пьяненькие, радостные. Но что-то неженское было в их лицах и сбивчивых разговорах.
Вода спокойная-спокойная, волны совсем нет. Только рябь легчайшая.
Вечером у гостиницы – живая музыка, звон бутылок, пьяное оживление. На открытой веранде гуляет местное купечество – поодаль дорогие автомобили, пузатые иномарки.
«Владимирский централ, этапом из Твери…»
«Детство, детство, ты куда ушло…»
«Как упоительны в России вечера…»
Сжатая в песне история духовной жизни «масс».
На веранде гуляли, а внизу на скамейках молодежь созерцала действо. Огоньки сигарет, пивные бутылки.
А бомж на площадке перед верандой – припрясывал. Здорово у него получалось, с поворотами. Даже лучше, чем у тех, кто на веранде. Танцевал от души, со знанием дела. Во время медленных танцев он руками изображал партнёршу.
Местный бомонд – коротко, почти под ноль стриженные деловые женщины. Видно, что им приходится ломить без всяких скидок на слабый пол. Много мужчин под тридцать с перебитыми носами – молодость прошла в рэкете, на «стрелках», в битвах первоначального накопления. Много пива, хмельного веселья. Музыкант даёт петуха – каждый вечер (кроме понедельника), он напрягает свой молодой (сам немолод), с красивым тембром голос.
Почти никто из них не жил так, как хотел. А я?
Деловые тётки танцевали с сумками под мышкой, а бомж свою клетчатую сумку («дом») отставил в сторону. Бомжу нечего терять… Уже…
И общая безнадёжность жизни… Почему-то.
Депрессивная грусть. «Ямщик, не гони лошадей…» Страшный, если вдуматься, романс.
Мужчина-шахматист меняет газеты на стенде возле своего дома. «За правое дело» – орган КПРФ, «Совроссию», «Правду»…
Как же быстро меняется моё настроение! Ещё вчера я была бодра, вдохновенна, а нынче – робка, пуглива, задумчива.
Почему бы тебе не быть рядом со мной? Тебе, такому красивому, родному, всёпонимающему, нежному? Мужественная нежность. Раньше мне казалось главным рассказать о том, как я люблю тебя. Теперь я поняла: важнее другое – рассказать о том, какой большой, радостно-верной, нежно-мужественной может быть любовь мужчины. Твоя любовь.
Всё пройдет. Не будет ни нас, ни этих ветреных мучительных дней, ни-че-го. Будет только любовь. Свет, сотканный из частичек наших далёких душ.
Как непригляден, сучковат и скучен мелкий сосняк – с тонкими стволами деревьев, зарослями, кустарниками. И как красивы вековые сосны – гордые деревья, чуть покачивающие кронами-«полубоксами», жарко-светло-коричневые, с толстой, потрескавшейся внизу корой. Среди таких деревьев чувствуешь себя особенно красиво, свободно…
Медленно-медленно покачиваются в вышине огромные кроны. Какая мощь, сила, и, кажется, что она питает землю, воздух, меня, всю округу. Я набрасываю этюд, не думая о технике, о качестве – у меня все получится, натура сама всё скажет.
Но неужели пройдёт и это, и постареют сосны, и мы постареем, и не будет у нас этой красоты?!
У нас не могло быть обидах детей (впрочем, наши дети и так были обидами), общей посуды, мебели, дома… Ничего общего. Кроме вот этих воспоминаний, и вот этого отражения – муж и жена, обнаженные, перед зеркалом.
Какой нормальный муж отпустит свою, горячо любимую жену, на свободу, поцеловав прежде – крест-накрест – её в макушку?
«Поезжай», – глаза твои были грустны.
Словно остатки древней цивилизации сразу за стадионом возвышались полуразрушенные арочные ворота.
Футбол: «Ветгехника» против «Мючкявюса» (название компьютерного магазина). Команды – мужики, смешанные со школьниками.
Если бы я была мужчиной, я бы обязательно стала реставратором и восстанавливала бы древние храмы, терема… Мне кажется, что это одна из самых благородных (из ненужных человечеству) профессий.
По лесам я бы взбиралась в самый купол храма и по сантиметру, очень аккуратно открывала древние фрески. («Женя, – звал на лесах друга реставратор, – давай передвинемся за окно…»).
Пахло извёсткой, дождём, тихие женщины выходили из кованых дверей ларца-дворца, на часах – 17.00, конец рабочего дня, а эти бородатые мужики в зелёной спецодежде подправляют лепнину, работают…
Реставратор работает на вечность. Я бы тоже хотела быть сопричастной вечности, нет, не жить вечно, Боже упаси, в этом страшном мире, а принадлежать вечности, которая не боится времени.