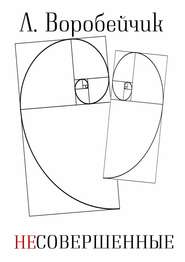скачать книгу бесплатно
Несовершенные
Л. Воробейчик
Жизнь отчего-то обречена на несовершенство. Присмотритесь – оно всюду: в жизни отца-одиночки, в подростках, живущих ненавистью, в несбыточных надеждах, в первой, самой разрушительной, любви. И даже в макаронах, боги, в подгоревших до черной корки макаронах…
Несовершенные
Л. Воробейчик
Дизайнер обложки Павел Сергеевич Калюжин
© Л. Воробейчик, 2017
© Павел Сергеевич Калюжин, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4485-0586-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Это был один из тех летних дней, которые я целиком практически не помню, из тех, где хоть какое-то значение представляют только лишь полчаса ночи.
Я говорил, она тоже говорила, много было у нас всякого звука, возникающего из наших ртов и нас же им заволакивающих. У нас вообще было много всяких штук, порождаемых ртом, вроде слова «нет» и извечного вопроса – «почему», а еще было плохое дыхание. Почему такое? Да потому что мы причиняли друг другу боль именно словами, ну и следовательно запахом этих слов, ну а еще у нас с ней были всякие жидкости вроде слюны, которая иногда капала на простыни. Мы, конечно, меняли их, словно бы это могло помочь простыням быть нетронутыми. Наивные – мы тут же мяли их телами, пачкали слюной и пошлостью своего существования в данном месте и данном времени, в непосредственной близости, в сути наших отношений и существования вообще. Так что простыня была лишь маленьким следствием несовершенства нашей голой тесноты и всего такого. Остальные следствия требовали дальнейшего анализа, ну а мне, в силу возраста, о таких далеких вещах думать уже, по-хорошему, некогда. Но что поделать – думать приходится…
Хуже всего было со ртом, порождающим всякие явления вроде слюны и слов, и это было опаснее прочего, хотя я, конечно, преувеличиваю: я вовсе забываю о зубах, которыми можно даже прокусить тонкую кожу и явить миру алую и багровую кровь (следовательно, не так уж слова и опасны), но мы не кусали – мы рвали друг друга только вопросами и грустными фразами. Возраст такой, наверное. Но мы не думали и об этом тоже.
Нет, мы вовсе об этом не думали, нет, нет, мы совсем ни о чем не думали, а наши языки были склизкими щупальцами осьминога и еще червоточиной; слюна капала, капали слова, а где падали, там прожигали простыни. Мы спорили о будущем, понимая, что мы и будущее – дело вовсе фантастическое. В общем, наша дряблость, слюна, слова, простыни. Все это – мы, и это только несовершенство наших ртов; вообще, конечно, сильно слово это ко мне припечаталось, что и говорить. «Несовершенство». Даже и говорить-то нечего, но говорю: наверное, всегда так было, что не было с основания мира чего-то по-настоящему чистого и правильного, во всем всегда были и углы и изъяны; так что неудивительно, что и мы герои полотен постимпрессионизма – одни изъяны да углы, да причем такие неудачные, что паз в паз, ребро в ребро и, следовательно, созданы друг для друга. Чтобы спорить и ругаться, да еще и отравлять жизни. Такая ночь, какую и запоминать-то тошно. Но лучше запоминать новое, чем возвращаться к старому – говорю как человек, что ненавидит и одно, и другое.
Стариковы мысли… везде смогу преувеличить. Везде эту травлю вижу, яд этот растекающийся. Казалось бы – разговоры как разговоры, жизнь как жизнь, несовершенны – да и боги с ним. Это же маленькое дело, рты наши, слова, ругань – ведь покуда мы сами неидеальны, где бы взяться взаимопониманию? Как может понять злодей злодея, а слепой – другого слепца? Так и мы. Верхушки айсберга не существует этой летней и душной ночью, ибо верхушка – это абсолют, маленькая идеальная точка размером с клопа, вниз уходящая какой-угодно неровностью. Пусть хоть углами изойдет – верхушка-то идеальна. Но вот до нее нам еще карабкаться и ползти, и не то, чтобы я не хотел или же она не хотела, ну, просто мы не подходим для скалолазания и друг друга из-за своих ртов (если начинать с самого заметного) и всего остального, хотя по отдельности друг другу подобны, хоть зеркало ставь. В общем, все же изначально мысль была правильна. Рыба с головы тухнет, мы – со ртов. Поэтому и поступков каких-то, высоты в плане чувственности, благосклонности и планирования вообще ждать не приходится. Нам, говоря проще, не по пути – и не по моей вине. Я понимаю, ну а она – нет. Просто кто-то ждет слишком много и не видит всей картины целиком. И плачет.
Когда мы плачем (она плачет), мы впадаем в банальности, приравнивая их к следствию наших чувств, но на самом деле приравнивать их стоило бы к чему еще. Это просто различные синдромы других следствий, не более. Или она это дело любит просто?
Я ударял по стене в исступлении – плакала, я гладил – плакала, она плакала по любому поводу: чай, моя мужская слабость, гляди-ка, как падают листья, я расскажу о товарняке, что едет в никуда, как и мы идем в никуда, слышишь?..слишком тихо шепчутся, твой сын смотрит на меня как на чужую, я – не та, чувствую себя моложе, ты – не тот, прекрасная музыка, все кругом прекрасное, но только давай опять поговорим о будущем, а я спорю, мол, нет, несовершенное и говорить не будем, и вот тут слово за слово, и слезы ради слез, и молимся вместе разным богам и, нет-нет, Боже, ты уверен, что дело не в тебе, сходи к врачу, Коленька. Плакала из-за утраченных возможностей. Из-за Сашка плакала, губы поджимала. Предлагала все оставить как есть и начать заново, почти с нуля. Она так сильно обижается: говорит, что я, кажется, совсем не нужна тебе, Коля. А я не могу ей сказать, что, в общем-то, мне безразлично – некрасиво говорить такое женщине в твоей кровати. Что есть лишь вещи из тех, что я не хочу – а вот вещей, которые я хочу, почти не осталось. Те же, что остались – ну, фантастика, книжные полки целые, космические приключения надежд Николая. Главный герой – Сашок, шестнадцатилетний ребенок от чужой женщины. Композиция: печальная. Финал – более чем открытый.
Она просто не понимает, а знает свою версию – и только. Для нее все вытекает одно из другого, из ее маленькой правды, как орнамент на улице из жухлых листьев, как будто бы это всё обязано быть просто-запросто. И потому мы и есть слезы, падающие звездами, слезы ради слез, ибо железы застоялись, а трубочист внутри них бьет и бьет, вот тебе объяснение, а под них уже и повод любой подгоняется. Синдром завышенных ожиданий, да моих молчаливых обещаний. У нас что ни день или ночь – то попытки, вечно пытаемся, а чего, не понимаю уже. Видимо, только плакать и пытаемся. Только это и выходит.
Вообще, ночью поэтично все как-то. Даже иногда думаю, что как-то со стороны это смотрится интересно.
– Знаешь, – в сердцах говорит мне она. – такую жизнь-то и не выразишь никак иначе, Коля! Омерзение во всем.
Конечно, отвечаю, тут по-французски и не скажешь. Язык не тот, быт не тот. Как Сашок говорит, «житуха» не та. Мы, конечно, попытаться можем… по-французски? Да выбирай любой язык, дорогая Инга, твои слова или мои не станут мягче или легче от смены фраз. Хрен че поменяется, дорогая Инга. Наши тела-доски подгоняются стык в стык, паз в паз, а слова попадают изо рта в рот даже набором элементарных фонем, пусть хоть пролаянных, и неизменно это вызывают – в этом ли, в другом ли, но наша отягощенность друг другом, что порождает слезы, может даже быть выражена по-кошачьи, зачем рвать лапы лягушкам ради того, что неминуемо, что породит наше непонимание, нашу новую войну за будущее, а? Хотя, казалось бы… слезы, прямое продолжение наших отвратительных ртов. В этом городе, банально до крайности, в оранжево-бежевом августовском времени нам плевать и на город, и на ночной холод, только одеяло, нестираные заслезенные простыни, да мы; плачет по поводу и без – о каком-то утверждает будущем, хочет наследника. Несовершенно, что и сказать, хоть и вполне обычно.
Устал я, кряхтя размышляю: вот стены – у стен нет изъянов, махонькие бабочки, залетающие с улицы, что не умирают, садятся зачем-то на шторы и смотрят на нас немигающе; как и я на них. Перевожу тему, говорю, мол, они великолепны.
– То есть? То есть, Коля? – взрывается она. – Какие бабочки? Не слышишь меня, да, как всегда? Я говорю: поговори с ним, я не могу так… Мне другого нужно, а ты, – глаза дрожат, руки заламываются. – а ты все… Все никак. Коля! Какие бабочки? Я о нас, а ты о… что, нечего сказать? Сказать тебе, Коля, нечего?!
Ночь. Хорошо, что Сашок не дома, гуляет, не слышит этого. Не смотрит на нее с яростью как всегда.
– Ну а что еще сказать. – устало вздыхаю. – Нечего.
И правда – говорить нечего. Это же мы. Мы пили, но не пьянели – много пили. Сегодня, например, вино, отдающее кислым запахом, я окрестил его запахом нашего обоюдного страдания, пока она крестилась двумя пальцами и молилась, чтобы в этот раз точно получилось; сильно-то она наследника хочет. Говорили потом, но звука не слетало. Жили, но как бы не этой жизнью, я – прошлой, она – невозможной. Скоро уж третий месяц пойдет этого бытья-житья. Зачем, правда, не знаю. Даже устаю от себя – такого.
Так со стороны посмотреть – забавно даже. Какой-то ореол романтичности, книжное нагромождение – пласт за пластом, проблема на проблеме; старики, курящие, пьющие, спорящие ни о чем и ругающиеся, ругающиеся… Задумываюсь еще: как бы я описал себя или ее в контексте всего этого?
Вот она посмотрела. До мурашек аж. Описать этот взгляд не выходит; не воссоздать человека набором слов, каким бы словарным запасом не обладал, какой бы фантазией не обладал слушающий, нет-нет, просто как объяснить взгляд набором буковок, словишек, фразочек? Вот сидит она, печальная, но разъяренная и смотрит – и я, даже закрыв глаза, не смогу это повторить хотя бы в своем воображении, что уж тогда эти самые слова. Слов не хватает в принципе, хотя жизненный опыт, да и читательский опыт, да и бытовой. А ведь это, ну, наша августовская ночь – обычная литературщина, проблема из ничего. Должны слова сами браться. Как в книжках, читано-перечитано. Чтобы одно слово – и метко, в цель. И поняла она сразу. И отстала наконец…
Или вот я. В таких ситуациях говорят или же пишут: сердце остановилось или пошло быстрее. А это фарс, глупая комедия: мне плевать и всегда плевать было на это самое сердце с того самого раза, разве за ним следишь, когда на тебя смотрят таким взглядом?
«Он прожигает насквозь, взгляд этот»…ни черта он не прожигает, взгляд как взгляд, его не обзовешь даже никак. Он бесконкретен, в нем нет даже намека на чувство, он абсолютно оторван от нее, как бы вне нее; взгляд – эта, как ее, парцелляция, только от мира взглядов и людей; о лошадях и людях, о временах и нравах, о политических трактах, о силе незнакомого интернета, о моей рыбьей принадлежности (плаваю да плаваю в прошлом, удильщик херов), о можжевеловых кустах и о волосиках на губах повзрослевших мальчишек – словом, о всей той жизни, что я знаю и раньше знал, и что нельзя уложить ни в один из списков. Жизнь – она и есть жизнь, а этот взгляд – да даже магия фотографии передать его неспособна. Чего уж там слова… Она как будто что-то решила. Взгляд затравленной Инги, какая мне не знакома никак.
Мне, в общем, не выйдет даже приблизительно его описать, да и незачем, достаточно решить, как на него ответить. Словарь закончится, прежде чем из двадцати тысяч слов я выберу нужное, это, как его, со-вершен-ное. Такое как раз нужно, а раз попытка моя заведомо обречена на провал, что же, тут уже можно и языки посмешивать, и на французский перейти, и жидкости в наших ртах и слезных железах, и все это вместе. Спать можно отправится, чтобы опять проснуться и все как всегда. Все равно завтра будем ругаться, наверное, или же нет, кто разберет – разве лишь время рассудит. Но взгляд у нее выходит, конечно, мощный, когда говорю, что сказать мне больше нечего.
Выдавливает:
– Ну, что же. Раз нечего, то нечего. – и вновь на меня ядом слов. Боги, как это утомляет! И перед таким важным (если захотеть) днем.
На минуту все сжимается – и это не литературный прием, там, сзади, я правда сжимаюсь, словно бы в меня пытаются силой проникнуть; хочет войти в меня мнимое и придуманное несовершенство ситуации. Почему – не знаю. Но фраза нравится. Хлопает дверь – пришел Сашок, и я иду его встречать в одних трусах и с глупой улыбкой. Чуть не вприпрыжку. Не с ней же все спорить и спорить, ну. Завтра, как-никак, день тяжелый. На новую работу, как-никак.
***
Проснулся я как всегда рано – в шесть с малым. Слышу – папка хлопочет, поглядел – выбритый, пахнущий. На работу ему новую; старается, че, впечатление и все в этом духе. Ингой даже и не пахнет.
– Доброе. А чего без мамашки Инги?
– Сашок, не надо ее так называть, – кричит он, пока плита шипит и плюется. – вы с ней разминулись. Ушла она минут десять назад, говорит дела срочные. Доброе, завтрак – пять минут.
Но я-то сразу смекнул в чем дело. Папка на то и папка, чтобы загадками говорить. Ни слова о письмеце на комоде – всякое может быть; может, и правда не видел. Ну, решаю, значит и не увидит. Припрятал его – и за зарядку взялся. Подходы, отжимания с хлопками, мешок. Надо бы, по-хорошему, поспать еще было бы – в школу послезавтра, и опять по новой. Ночи-то нынче такие, долгие, пацаны, движи. Сна хер хватает.
Но че сожалеть-то, раз уж встал, привычка. Кухня шипит. День вроде как насыщенный быть должен и солнечный. Мамашка в письме написала:
«А я и не знаю, как начать, столько думала, и вот. Одна и с письмом, пишу его тебе вот, а по лицу слезы. Ну не глупо? Даже в некоторой степени отвратительно, и я себе отвратительна, и вообще, знаешь. Все это. Не могу.
Я не то, что бы разочаровалась в тебе, Коль, вовсе нет, просто меня пугают наши перспективы. Ты не хочешь идти дальше, а я уже тяну локомотив. Твой сын… это твой сын. Он меня пугает. Я не смогу с ним дальше – вижу по его злому взгляду, Коля… а я любви хочу. Матерью хочу стать, понимаешь? А с ним у нас не выйдет. А новых ты не хочешь…
Я письмо это укоротила, много повыбрасывала. Сам же коришь за книжность моего стиля, будто бы это что-то плохое. Но я, кажется, сказала все. Не вернусь, не ищи. И да, я плачу, не думай, что веселюсь, с любовью,
твоя Инга.»
Ухмыляюсь – и эта из-за меня свалила. Идиотка. Как будто по нему не видно – все равно ему; что он-то искать не будет. Опыт же не пропьешь, хоть он и старается. Но эта мамашка вроде бы одна из самых долгих – почти все лето с нами. Не выдержу думал, скажу ей че, но ничего, хотя собачились частенько. Я от него даже как бы и не ожидал – они же все реже и реже в нашей квартире-то появлялись, мамашки-то, возраст такой, наверное.
А так – красава он, конечно, хоть и мне наперекор, знает же – ненавижу их всех. Правда, че воздух трясти, письмецо теперь; вроде бы и порадоваться надо, да нечему. Как мужик он ее использовал по назначению, свои потребности осуществлял-то. Ему нужно – уж чего-чего, а это за свои шестнадцать просек. Так что красава он. Только вот неработающая она, но питающаяся тем, что нам на двоих. Так что папка, в общем, умный, но съехавший, с каждым днем все сильнее и сильнее.
Вообще с ним вроде все так – помешательство у него небольшое, даже незаметное почти. Взгляд только замутненный, но оно и понятно – прошлое на то и прошлое. Раньше малой был – не понимал, теперь вроде немного больше ясности-то. Папка, папка: на кухне и пахнет, на работу новую, чтобы его опять уволили оттуда через месяц-другой. Беспредельщик потому что папка, но не как старшие с района, а дурашливый такой беспредельщик, маленький: ищет, чего бы потырить да загнать, о честном заработке давно уже речи нет. Вроде как плохо по-общественному. А вроде – для семьи. Ну, это он так говорит, мне-то, по большому счету, все равно. Меня больше волнует моя маленькая война, если быть честным.
А папка-то… ну, с ума иногда сходит. Обычно – как мамашка очередная сваливает, в основном от меня, с ним все сразу понятно. Прихожу домой однажды, а он сидит на полу, а кругом – посуда разбитая.
– Ушла чтоль? – интересуюсь.
– Ушла. – кивает он. Всхлипывает. Бил стаканы. Граненые кусочки по всему ковру.
– Кружка хоть одна осталась? – спрашиваю, на пол гляданув. – Чай-то надо утром пить.
И, в общем, два месяца одна кружка на двоих и была-то. Бывает с ним такое после ухода очередной мамашки; привыкшие. То в стену пялит, то бьет по стенам, то пьет – либо один, либо с дядей Костиком. Тогда я вообще домой не особенно заходить люблю. Они же… не знаю даже. Вспоминают одно и то же, ну а меня – «жизни учат». Себя бы поучили. Я и так ученый.
Вот, май был или конец апреля – захожу в квартиру: надымлено, музыка неприятная, мат, гогот. Влияние не мамашкинское – дядь Костино. По малолеткам, помню, находиться с ним страшно даже было как-то, ну а теперь – не так. Ну как страшно. Слегка боязно, что ли. Страха я не испытывал давненько уже, папка хорошо отучил; я с эмоциями в последнее время вообще не особо связан. А раньше чуть не дрожал, когда меня напротив на табурет сажали и заставляли в красные глаза водочные глядеть. И отвечать правильно чтобы, а не то мат-перемат, и папка так глянет, что все сжимается. И смех их. И разочарование…
– Ладно, Саша… – печально говорил папка в такие разы. – давай-ка к себе. А мы тут… сами.
– Да-а-а, – уже из-за двери слышал я. – воспитал сыночка…
И было обидно, даже ребенком. Да, наверное, у каждого есть такой хороший друг, такой вот дядя Костя – рядом с которым ты как бы сам не свой. Когда такой вот дядя рядом, тебя и семья не понимает, и окружающим мерзко, и храбришься, выделываешься как не знаю кто.
С тех пор громких попоек не было. Выпьет тихо, да спать ляжет, мне не мешает. Если мамашка какая, то вообще крепкого не пьет и дядю Костю совсем к квартире не подпускает. Дружбы я такой не понимаю. Так о чем я… А, ну да. Попоек не было давно, но сегодня, чую, будет – как поймет, что Инга тю-тю, свинтила. Хотя может и нет – работа, как-никак, дело такое, искать ее папке сложновато с каждым новым разом. Кризис, говорят, безработица и дефицит. А папка всё про падение нравов…
После завтрака – пробежка. На часах начало восьмого, конец августа, многие еще спят. Конечно, бегать после еды тяжеловато. Но в этом суть моей привычки. Каждое утро – в шесть, начало седьмого. Два подхода, отжимания, подтягивания. Завтрак – молчание вместе с папкой. И потом пробежка. Обычно все мои пацаны еще спят. Враги – тоже. И я чувствую себя как-то по-другому, что ли, ну, когда вот так бегу после еды, хоть живот и подкручивает; много наблюдаю. Вижу некоторые интересные вещи. Бегу, несмотря на запреты врачей (какой ж дурак после еды-то бегать будет), потому что я Саня, Саня Гайсанов. Сам потому что знаю все, папке поклон, че уж.
Что мне готовит этот день? Все как всегда; пробегусь, устану, помоюсь, пойду к реке. Уверен, все соберутся уже. Обсудим наши планы, разработаем очередную стратегию наступления и преимущества. Обсудим последние новости. Позачеркиваем дни до освобождения Димана Тувина. Пойдем на Туза, если пацаны отошли уже от того раза – внезапно пойдем, резко пойдем, ударим, когда не ждет. Закурим и, счастливые, купаться побежим. На речке будем в парах стоять, тренироваться; жаль, зал закрыли почему-то. Целый день проведем в поисках нового смысла на весь день. Не будем думать о всяких дуростях типа политики и любви. Вечером, может, Казак достанет вина и тогда… У ночного огня мы будем провожать август, такой же, как и июль с июнем, как и все лето, ничего не давшее нам. Загудим. А потом прижмем Туза, обязательно. А про учебу, которая начнется уже через пару дней, не скажем ни слова – лишь плюнем да разотрем.
Да, мне многое безразлично – но это, кажется, все еще греет меня изнутри.
***
Бегу, в общем. Кроссовки прохудились, я в них второй год. Нога уже выросла, но чего поделать – приходится бегать в чем есть. Несмотря ни на что потому что. Бегу, в общем, и смотрю на мой район, кружу, тяжело вдыхаю и выдыхаю. Дыхалка посажена – сигареты все, трудно стало. В животе тянет. Серые дома встречают меня своими тайнами – по улице Правды дом пятый и дом седьмой, а через квартал – улица Бажова, где живет Паша Тумблер, ну а там дальше – поселок Солнечный, где Сизовы, откуда однажды тащили меня, с кровью на щеках и без сознания…
Бегу по этим грязным, неухоженным улицам и думаю, все о папке думаю. О себе чуть-чуть и о вечере – я-то со своими буду, ну а он – он. Будет кричать что есть мочи и опять что-то ломать или бить. Один или позовет друга, ну а может и мамашку новую с горя – не знаю я. И жалко его даже совсем немного. Но в то же время и нет. Папка он на то и папка. Отношения у нас с ним, скажем попросту, своеобразные.
Наверное, это ненормально, ну, когда у пацана детства нет совсем. Но не как в книжках про беспризорников, я-то как раз в семье был, просто этой семьи как бы не было. Папка ж не воспитатель. Сколько себя помню – делай, Сашок, чего хочешь, получай, чего хочешь. Мы даже не сказать чтобы друг другу отец с сыном. Скорее два несчастных друга, нам друг на друга плевать, так, спросим иногда что-то друг у друга, да и все. Говорит иногда:
– Ты не такой, Сашок. Ты другим быть должен.
– Каким?
– Другим. – стоит он на своем.
А я, типа, угадать должен. Ну а кому это надо? Мне что ли? Живу и живу. Учусь пока. Воюю. Не знаю, чего он от меня хотел или хочет. Говорит, сердце ему разбил, все его мечты похерил. Как правда – не совсем понимаю; но это наверное дела прошлого, те самые, не отойдет никак. Живем, короче, просто соседями под одной крышей, денег он мне дает и готовит еще. Ну а я взамен комнату убираю, закрываю глаза на мамашек да на дядю Костю. Вот же, вспомнился; правда сегодня заявится, как обычно. Будет как всегда. В крайний раз было:
– Санек, Санек, иди сюда, – он пьяно шевелит рукой. – сядь да поговорим, я тебя научу.
– Чему?
– Да иди сюда, чего стоишь, ну же. – он выдвигает табуретку и ставит рядом с собой. – Вон, Николай, батя твой, совсем стух, видишь, грустит твой батя, да и мне скучно. Буду жизни тебя учить… Чтобы пацаном, Саня, быть, нормальным…
Молча глядел на него тогда. Без тени эмоций каких. Учить он собрался пацаном быть…
– Может, в другой раз? – спрашиваю. – Мне уроки еще надо.
– Знаю я ваши уроки! Короче, слушай. Вот стоишь ты возле врага, а он умоляет…
Ну и все в таком духе. Моральные выборы и загадки про стулья – вот все его жизненные уроки. А потом начинаются истории, слышанные по сотне раз. Про молодость ихнюю, юность, про амбиции. Папка-то, мол, в молодости не таким был – громким, ярким, взгляд горел. А Костик-то, мол, на гитаре играл и однажды двух девочек разом, а потом они баловались кое-с-чем, что теперь так просто не достать, а еще они хоронили своих пацанов, а еще однажды украли столько, что можно было купить автомобиль и они пропили все это за ночь, и как папка познакомил Костика с его женой и все такое. Скука, короче. Сидит вот такой вот учитель, пьяный, передо мной, шестнадцатилетним – и учит жизни. Не смешно? Бессмысленное прошлое, когда вот так вот вспоминается. Да и настоящее тоже. Да и будущее тоже. Не только их. Вообще все. Значения мало что вообще представляет, я вот чего понял. Война разве что моя – да и та когда-нибудь кончится…
Бегу, начинаю уставать. В моем спальном районе совсем нет незнакомых мне мест. Каждая улица говорит о чем-то своем, рассказывает свою историю. Каждая улица ближе мне, чем та стена, в которую я носом утыкаюсь, когда засыпаю. Это нормально. Дом мне не дом. Мне улица – дом, че уж тут поделаешь. Папкина ли тут вина? Не знаю. Вообще сложно в шестнадцать рассуждать о таких вещах. Да и не рассуждаю я обычно. Вечер просто будет у него тяжелым, опять он в житуху с головой нырнет.
Да уж, житуха… старый он, несчастный. Иногда очень глупый бывает – не в словах, а в делах. Работы меняет, занимает у дядь Костика, пропивает много и прокуривает, что-то постоянно тащит и, в общем, как-то крутится. Но на мамашек и водку хватает всегда. Не сдается – горе свое знает как утешить. Маленький он стал, папка-то. Раньше больше был, хотя может я помоложе был – не знаю; теперь как вешалка какая в шкафу незаметная, а раньше вроде как сам шкаф был. Одним днем живет, да и то больше не днем, а вечером. Читал раньше много – книг на половину квартиры. Читал мне много, а потом заставлял самому читать. Жаль, детских книг обычно не было.
Нахватался-то я, от папки-то. Он забыл, что детям нужно читать детские книги, а он на тебе – и свой треклятый сюрреализм. В то время, пока мои ровесники пускали слюни от сказок, я, ни хера не понимая, познавал трагедию в лучших ее видах, ну, и все такое. Наверное, это-то меня и испортило, по его мнению, ну, а может это гены или наследственность – да, так как-то. Но он, правда, умный, иногда так завернет, что аж интересно. Ну, как интересно – раньше часами его слушал, а он иногда говорил вещи, от которых пересыхало в горле, а иногда – не пересыхало; нёс несусветную чушь.
– Ты – крыло бабочки, – серьезно и без тени улыбки говорил он. – Тонкое, незаметное.
– Я не понимаю. – честно не понимал я.
– Крыло, лист, пятно столе, Саш, ты – все это, – понятное только ему говорил он мне. – Ты – это все, что ты можешь ощутить, прочувствовать, все, что может сломаться у тебя в руке. Абсолютно все. От малейшего ветерка по твоей коже проносятся еле ощутимые вибрации – так ты реагируешь на мир, и так ты его меняешь, своей вибрацией.
– Значит, я – это абсолютно все? – я не понял и половины слов.
– Абсолютно.
– Я – все? Это глупо, пап.
– Как и все вокруг.
Я не унимался, в то время я был любознательным.
– Я не понимаю, как человек может быть абсолютно всем. Ты объясняешь глупо.
– Ты не поймешь иначе! – вскинул он руки и выдавил некое подобие улыбки. – Человек – это все, что он может увидеть, потрогать, понюхать. Все, что он может создать. Все слова, что он говорит, слова, которыми он меняет этот мир, а следовательно и все то, чем сам является. Замрет человек, глаза закроет, думать перестанет – и все, и перестанет он развиваться, ни один его угол, ни один его изгиб не перетекает в другой. Сашка, ну напрягись, – чуть не взмолился он. – представь себе всю странность этого явления.
– Я не могу, папа, – честно сказал я. – это ведь глупо. Ты говоришь, что я, например, этот стул или стол?
– Что-то в этом роде.
– Но зачем мне быть стулом или столом?
– А почему бы им и не быть, – вздохнул он. – Куда лучше быть стулом, посмотрев на него, чем человеком, посмотревшим на стул.
– Я не понимаю.
– Поймешь, – почти шептал он. – обязательно, когда-нибудь поймешь.
Этого я не понял. Прекрасно понял, что в воспитании и досуге для ребенка он так себе, ну а остальное – это дурость его головы, а мне свою этим забивать нечего. Мне хотелось играть сколько себя помню – а ему не хотелось. Однажды я остался на улице допоздна; остальных уже давно позвали домой. Так получилось, что я остался совсем один под фонарем, часов было десять или даже больше. Похолодало, мне было лет восемь или девять. Все уходили: всех звали на ужин их матери, волнующимся голосом, нежной и строгой интонацией. Когда я приплелся домой, он сказал:
– А-а. Нагулялся? – даже не посмотрев на меня. Даже не взглянув.
Тогда ли это началось или еще раньше? Может, в тот день, когда первая мамашка ушла в первую очередь не от него, а от меня? Самая первая мамашка. Моя мамашка. Ну, когда он только головой съехал, помешанным стал. Когда книжки читать перестал да пить начал. Когда дядя Костя зачастил, да «нянчился», по его словам. Не знаю я. Не знаю. Все равно как-то; было и было.
Перед подъездом тяжело дышу. Солнце палит, живот тянет, ноги приятно гудят. Побаливают ребра, хотя после крайней стычки с Тузом прошла неделя. Мимо идет Светка, соседка на пару лет старше, улыбается мне, равнодушно здороваюсь. В мыслях – все ли там собрались уже, на нашем месте у реки? Последние летние деньки, потом так с утра на речке не искупаешься, да и холодновато уже будет. День будет долгим и приятным, ведь улица на то и улица, чтобы принадлежать лишь мне и моим пацанам.
И плевать, в общем-то, что человек я – нехороший, и что папка сегодня будет страдать и пить. Виноват, в общем-то, сам.
2