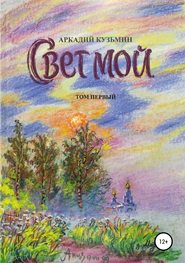скачать книгу бесплатно
Балалаечник, его шурин, уже не умевший так веселиться по старинке и берегший свое здоровье во всем, чтобы только подольше прожить на этом свете, лишь повторял со смехом:
– Ой, куда мы идем?! Куда только идем?! – И качал головой.
– Ах, мечта в полоску! – Сказала Инга вслух со вздохом, гладя на Аллу, жмущуюся к красавцу Володе.
– Я тебе объясняю: надо жить, а не досаждать другим! – выпалила вдруг Нина Павловна. – И захохотала звонко и красиво, но вполне дружелюбно, радуясь прежде всего своему нравственному здоровью и очередному избавлению от настырного мужа, а также от страха отставки после разгромной (очевидно, заказной) статьи, напечатанной в «Известиях» о том, что она оправдала якобы возможно преступного юношу.
И эти слова ее еще долго колебали воздух, звенели и отдавались в ушах Инги, как несправедливый ей приговор, именно ей, а никому другому.
Что, смирись, смирись, гордыня?!
И все расставилось по своим местам. Для Инги важней всего было узнать (и вздохнуть свободней), что ее несло куда-то слепое желание: по словам Лущина Стрелков – фик-фок на один бок – занят любимой женой и карьерой, он с Аллочкой даже не знаком; для Лущина главное было поговорить в кругу хороших собеседников, хотя и в этот раз он не успел высказать всего, что накопилось в его сейфе – голове: уймища идей; для Звездина – предстать перед всеми и собственной женой не конченным-таки дураком, а здравомыслящим супругом, готовым всегда к броску наверх из житейской траншеи; для Нины Павловны, как общественному, в первую очередь, лицу, – наконец покончить с таким его появлением, унижающим ее, но она пока не могла решить такое по-живому, хоть и могла судить в суде живых людей – других – на основании законов. Для Кости неудобством в компании представлялось присутствие жены: при ней он испытывал все же какую-то скованность и беззащитность. Как, наверное, та Настенька, вспомнил он, из корректорской, которой он, увидя ее давеча в милом сиреневом платьице, позволил себе сказать так нелепо:
– Невестишься ты, что ли?
И теперь, сожалея и жалея ее, ругал себя за это.
Да, Настя, несмотря на свои двадцать восемь лет и то, что она уже имела шестилетнего сына, была совершенно по-девичьи молода, мила, проста, доверчива. Костя и она накоротке разговаривали друг с другом о чем-то обычном, остановившись перед аудиторией. Однако это, видно, было ей скучно, ненужно; она ждала чего-то другого, не пустяшного. Она странно – жалко и грустно провела раз и обратно взглядом по его глазам, каким раньше не смотрела, и испуганно отвела взгляд в сторону. И этот взыскующий ее взгляд сказал ему все: что она мучается, живя без любимого мужчины, и как бы проверяла себя – примеряла к нему, Косте, – и как он этого не понимает! Только он тут все ясно понял, и она неожиданно увидала то и потому замолчала тотчас. После этого он старался больше не говорить фальшь достойным собеседникам, чтобы не сожалеть потом.
Наутро Костя столкнулся в вестибюле Университета с Владимиром, которого немного узнал по его отцу – маститому биологу. Они любезно поздоровались, раскланялись друг перед другом. Почти заговорщически.
– Знаете, – смущенно заговорил тот, – никак не могу вспомнить лица голубенькой мадонны, с кем мы вечером щебетали и кого я потом провожал. То ли чуть перебрал на радостях, то ли не на то обращал внимание.
– Ой, Владимир, и я не могу ее представить себе сейчас, – признался Костя. – Что-то очень женственное… Ускользает ее образ… И была ли она вообще?..
– Ну, Вам-то, физиономисту, негоже не лицезреть красоту…
– Но не я же завлекал ее… Я лишь подглядывал…
И оба они толкнули друг друга в плечи и расхохотались.
– Есть и другие личики на примете. – Черт дернул Костю за язык.
– Да-а? Интересно… – При этом Владимир покосился на девушку-шатенку, красовавшуюся в газетном киоске.
И они разошлись по своим делам. Как уже хорошо, замечательно знакомые.
V
А днем наскоро заехал к Махалову в издательство измаильский дальнобойщик Жорка Бабенко, его боевой друг из бывшей Дунайской флотилии – атлетически сложенный мужчина, чертовски сильный, загорелый, густо говорящий, принципиально не снимающий с себя флотскую тельняшку. Да, он по-черному шоферил и теперь довез груз в Ленинград; этим и воспользовался для того, чтобы встретиться. Друзья радостно обнялись. За них порадовались тоже повоевавшие и все понимавшие Лущин и Кашин, и они вчетвером, гомоня, направились прямо в столовую – «Академичку» (что находилась рядом – у Менделеевской линии): Жора, как признался, дико проголодался в поездке. Зато он и взял себе на обед килограмм сарделек, кроме солянки, салата и картошки.
И вот, сидя за столом и разбираясь с едой, Жора и Костя говорили о том, кто из их товарищей где нынче здравствует и чем занимается, вспоминали и какие-то эпизоды, связанные со штурмом нашими частями Будапешта в январе 1945 года, когда Костя был ранен и госпитализирован.
На фронт Махалов ушел в 1942 году второкурсником Ленинградской специальной морской школы, проявив отменную настойчивость, – подавал прошение о том не раз; многие курсанты просились туда, но отпускали отсюда крайне редко. Он рвался туда, где мог схватиться в открытую с напавшим врагом: его звал долг чести; в начальных боях погиб его отец, комиссар, еще сумевший – раненый, лежа в повозке – вывести по компасу окруженных бойцов. В блокадном Ленинграде осталась одна его мать, педагог, женщина тоже заслуженная, стоическая, несмотря на ее внешнюю неброскость – небольшой росточек, скромность, не шумливость.
А Жора начал фронтовой опыт с первого же дня немецкого нападения. Служил пехотинцем и матросом на судне и морским разведчиком. Исползал на животе, что говорится, все от Крыма до Новороссийска и обратно. И дальше. Оба его брата погибли. А что и отец пропал без вести, он узнал лишь в 1944 году, когда наши освободили изщербленный Измаил, и он нашел мать и сестру живыми.
Это Жора спасал Костю, коварно подстреленного власовцем в пролете здания Будапештского банка, – быстренько вытащил его из-под обстрела на улицу, за мраморную тумбу; здесь Костя лежал совершенно беспомощный – над ним цвикали пули, свистели осколки, куски щебня, пока Жора отстреливался и не подоспели товарищи – невообразимо долго.
– А ты, Жорка, помнишь, как вы ввалились в палату армейского госпиталя – ко мне? – Костя прожевал кусок сардельки. – Госпиталь помещался под Будапештом, в какой-то бездействующей тогда школе.
– То все при нашей памяти, друг, – сказал Жора, поглощая еду.
– Мне помнится еще: ты приворожил тем днем медсестру-толстушку. Фамилия ее была Индутная. Вы понавезли гостинец, угощений, вино…
– Надо же! И ты аж фамилию ее запомнил? Ну, мастак!
– Так она расписалась на моей груди.
– Что, доподлинно? – удивился уже Николай. – На гипсовой накладке на рану. И потому-то мне запомнилось ее имя.
Картина послеоперационных хлопот с ним в перевязочной Косте виделась зрительно сейчас даже отчетливей прежнего. Его гипсовали на деревянном помосте, возле горящей печи (у противоположной от окон стене). Рядом был столик с гипсовой массой, с бинтами, пропитанными ею, тут же – ведро с бинтами. Медсестра бинтует вокруг тела, захватывая грудь; последнее, что она делает, – выдавливает на сыром еще гипсе химическим карандашом: «ХППГ № 50. Гипс наложен 19 января. М/с Индутная». Эта штука была у него как раз на груди – он эту надпись читал, глядя в зеркало, когда был без тельняшки.
– А назавтра после гипсования, рано утром, – рассказывал Костя для всех, – я проснулся от близкого грохота. Глаза продрал и вижу – парень, мой сосед, стонавший непрестанно, сидит на нарах. Чумной. И только-только приходит в себя. И даже не стонет.
Оказалось, ему – он после признался – приснилось (и ему повиделось), что в палату вошел какой-то человек. Был тот в белом халате. И объявил о срочной эвакуации всех, так как ползут сюда фашистские танки. Причем и точно скомандовал: «Кто сам может идти, выходите вон живей!» И вот парень (он был ранен в левое бедро, и стянут гипсом по торсу как обручем) во сне нащупал правой рукой нож под матрацем, подцепил лезвием крепчайший гипс (режут-то его ножницами, когда снимают) и снизу вверх располосовал его. Разорвал его и выбросил на пол. И только тут он очнулся, когда обломки гипса грохнулись о пол; и он увидел, что сидит с кровоточащей раной на бедре, а тот человек-видение исчез. Вместо того возник перед ним настоящий дежурный врач – и был поражен. Врач осмотрел тело пациента – и на нем даже царапины от ножа не нашел! Какая же силища вышла наружу! Разом!..
И снова отправили бедолагу на гипсование.
Я еще расскажу, Жора, ты ешь, ешь… Был здесь достойнейший зрелый хирург. В минуты, если выдавалось полегче, он читал нам, раненым, поучительные лекции, чтобы подбодрить нас… Например, он говорил: «А сейчас я прочту вам лекцию о любви. Хотел поговорить с вами об остеомиелите… Но потом…» И он говорил нам, по сути, мальчишкам, без всякой похабщины, об отношениях между мужчиной и женщиной. «У вас, ребята, все будет! Нужно учиться любить друг друга…»
– Уважаю таких сподвижников душевных, – сказал, вздохнув, Николай. – И что дальше?
– Подожди, Коля, еще не все… Скажу: может быть, поэтому и атмосфера в палате держалась уважительная… Однажды какой-то обормот легкораненый, но скрипучий стал обругивать медперсонал – женщин, так все раненые сами дружно осадили его: «Да ты, гнида пузатая, что корчишь из себя? Ты видишь, как они здесь на коленях ползают перед тобой; все моют, вылизывают – покою не знают, а ты кочевряжишься… Выселим тебя!..»
Лежал тут еще один интересный еврей – матрос. Под Одессой его родные прятались от оккупантов, но тех выдал какой-то негодяй – их расстреляли немцы. Когда освободили Одессу, этот матрос выпросил у начальства три дня отпуска, приехал туда, на родину. Убедившись, что родных уже нет на свете, он застрелил негодяя и вернулся в свою часть на фронт. В бою он потерял обе ноги, но ночью в бреду забывал о том – и вскакивал. И был в ужасе от того, что на лице у него назрел пугающий чирей. Умолял всех: «Ой, не трогайте, только не выдавливайте! Я умру…» Лечащий врач подошел к нему. Со словами: «Ну разве можно это трогать? Никоим образом!» – И вдруг как нажал пальцем посильней – и сразу стержень нарыва выскочил.
– Тебя же оттуда увезла на лечение, как я помню, одна молоденькая докторица, – заметил Жора.
– Было, было, кстати, с вашей помощью. – Костя улыбнулся.
– А куда? – спросил Антон.
– В Морской стационар. На территорию Румынии.
– Расскажи-ка нам, маэстро, про это, – попросил Лущин, оживившись. – Все-таки романтика. Да и Жора, наверное, не все знает. Некогда было…
– У Жоры самого таких историй тьма, – сказал Костя. – Он скрытничает.
– Ничего похожего нет и в помине, – засмущался Жора. – Ты давай – рассказывай. Не мучай людей.
– Да мне жаль: видно, в сборе на отъезд тогда я и потерял редчайшие карманные часики. Спохватился, что их нет у меня, слишком поздно. Очень расстроился.
– Какие часики, Костя?
– Память. Мне их подарил в палате один пехотный лейтенант. Умирающий. Израненный шрапнелью. Лежавший почти рядом со мной. На нарах. К нему приезжали моряки с обожанием и преподнесли ему старинные часы – черные, с цепочкой и с чугунными крылышками. Так вот он, когда принесли нам завтрак, приподнялся чуть с усилием на локте, и спросил у меня, действительно ли я моряк. На мне же была натянута тельняшка. Я назвался чернофлотцем, рулевым. Что ему точно понравилось. Сунул он в руки лежачих ребят – для передачи мне – эти часики, подаренные ему: «возьми, друг, на память. Теперь пусть тебе они послужат… Хочу объяснить, служивые… Я преклоняюсь перед моряками, люблю их за верность. Со мной же, еще юнцом, в Одессе это приключилось: попал я в потасовку с уличной шпаной; та набросилась на боцмана, который защитил от них бабульку с трешкой. Я мимо проходил. Боцман только крикнул мне: «хлопчик, помоги! Спину мне прикрой!» Ну и заскочил я за него. Забронился кулачками по-боксерски малость, да куда хиленок был; прикрывал его, скажу по-честному, не спасительней бумаги папиросной. Истинно. Но за минуту-две боцман раскидал прочь бандюг. Я же по-геройски угодил в медпункт – потерял сознание: меня крепко огрели чем-то по голове. А назавтра в больницу ко мне явилась во всей красе полдюжина военных моряков! С цветами и конфетами… С этого-то, други мои, и заладилось их шефство коллективное надо мной, подопечным; они-то уж не забывали обо мне, если мы брели-ходили близ друг друга по одной широте…»
Костя, так рассказывая, привздохнул:
– И как я потом забыл тот подарок офицерский? Очень сожалею.
– Небось, загляделся на докторшу… – Сказал Жора.
– Ты, Костя, знаешь: твоя забывчивость иногда возникала в такой степени, что и собственное имя забывал, не то, что фамилию, – перебил его Николай.
– Представляю, Коля: у тебя, танкиста, такого не могло быть, – заторопился, чтобы успеть высказаться Малахов. – Мы, матросня и солдатня, всегда молились на вас, танкистов-героев, восхищались вами. Ты в открытую освобождал от гитлеровцев города. Танком управлял… Сидел в нем, как в самой наковальне – ведь по броне вражью снаряды долбили… Ты – сильный духом человек.
– Сильный… а бессилен на миру… в словопрениях…
– Бывает… Только что меня просила соседка урезонить другую – бабушку-татарку и ее внука Федора устыдить… Парню – двадцать восемь лет. Уже старше нас, отвоевавших тогда юнцов. И теперь мне-то нужно устыдить этого Федора. «Ой, – сознался я перед ней, – я и на своего фараона повлиять не могу».
– Ну и ну!
– Внук Федор рос у бабки без отца и без матери. И она очень жалела его. А он, пользуясь этим, выманивал у нее всю ее скромную пенсию. Он работал в театре осветителем, получал рублей сорок. Мечтал устроиться певцом. И бабке говорил, что не поступил пока в консерваторию только потому, что накануне не выпил трех сырых яичек – их ему не на что было купить. И она верила во все его бредни – и ссужала его рублями. Разумеется, без возврата.
– Аллах! Греха нет! Грех вам будет! – Слышались в квартире привычные бабушкины причитания.
Это она заклинала двух своих взрослых дочерей, пришедших к ней с проверкой, чтобы те замолчали, не хулили племянника. Они приходили к ней с видом просящих (чтобы так узнать, отдала ли она в тот месяц свою пенсию). А он нарочно выбирал время и выпрашивал у нее рубли до прихода тетей. Она говорила им:
– Нет денег. Человек занял. Человек отдаст.
– Когда же?
– Три дня уже. Три дня говорил. Через три дня будет.
– Мы знаем, что это за человек? Федор?
– Ай, Аллах! Греха нет! – Начинала она причитать.
– Ну, ладно уж! – Прервал его Жора, – ты лучше расскажи про молоденькую докторицу. Небось, был молод, шибко влюбчив – кровь в тебе играла…
– Постой! Зачем «был»? – возразил с горячностью Костя. – Не-е, мне тут не светило ничегошеньки… Я боготворил… Поверь…
– Ну-ну, молчу, мил-дружок. Молчу.
VI
И сказанное Махаловым было верно пожалуй. Тогда.
– А где же мой матросик? – живо воскликнула влетевшая в госпитальную палату, как увидал Махалов, белокурая капитан медицинской службы. С морозца она, ладная собой и, видно, уверенная в себе молодая женщина, придерживая пальцами шинель, лишь накинутую на плечи, в берете и щегольских хромовых сапожках с желтыми отворотами, стала в помещении и разом оглядела ряды нар с ранеными. Это несомненно заинтриговало беспомощных бойцов, оживило их; все зашевелились, нетерпеливо заскрипели на досках, зашумели-забормотали.
Должно быть, время настало такое, считал Махалов, что все девушки, которых он видел, казались ему наикрасивейшими, как на подбор, – глаза разбегались…
– Слышь, Костик, ведь тебя краса ищет, – сообразил его сосед. – Ну, завидую, ты глянь: тебе чудно повезло по женской части. Вот счастливчик!
Вошедшая дива уже взглянула прямо на лежащего Махалова, у которого поверх наложенного на грудь и руку гипса была натянута тельняшка – грех не заметить ее, и, подойдя к нему поближе, ласково осведомилась:
– Матрос Махалов? Капитан Никишина.
– Точно так: морской разведчик, – уточнил он будто с некоторой претензией к ее недогадливости, приподнимаясь на логте и непочтительно глядя в упор своими густыми зеленоватыми глазами на нежный светлый лик, возникший перед ним точно из небыли. В иных – лучших – обстоятельствах ему, фронтовику, полагалось бы вытянуться в струнку перед старшей по званию особой, и он бы с радостью это сделал по своей галантности и обожанию; только теперь он, и рыцарь в душе, был прикован к постели и мог лишь проявить свое остроумие.
– Я заберу тебя отсюда, ладно? – И Никишина слегка порозовела от смущения перед его упорным взглядом.
– С Вами хоть куда! – Он, осмелев, даже не спрашивал, куда.
– Капитан, помилуйте!.. – проворчал поспешивший сюда хирург – майор, в белом халате, выбритый, строгий и вместе с тем доброжелательный. – И здравствуйте… Чем обязаны Вам? – И естественно – просто подал ей руку.
– Здравствуйте! Никишина. – Улыбнулась капитан. – Двух наших моряков увожу в морской стационар. Вот распоряжение…
– Чье распоряжение, товарищ капитан? – несдержанно спросил Махалов.
– По приказу командующего мы приехали сюда.
– С тебя причитается приятель, – заявил опять сосед-говорун. – Вишь, не хотят, чтобы ты потерялся среди нас, пехотной братвы… Чуешь?..
И Косте было лестно знать, что это наверняка постарались его друзья из разведотряда, навестившие его здесь на-днях, – попросту могли они послать донесение в штаб флотилии, и оно-то попало к командующему…
Так Махалов вместе с другим, незнакомым ему, матросом Гусевым, раненным в правую руку и бедро, оказались в санитарной автомашине на подвешенных к стенкам носилках.
Они припозднились с выездом, прифронтовая зимняя дорога была разбита; потому Махалов предложил Никишиной заехать по пути в его разведотряд, на окраину Пешта, и заночевать там в безопасности, и она мило согласилась.
В отряде их встретили всемогущие, обходительные друзья, ходящие, как бывалые краснофлотцы, вразвалочку; мигом они внесли раненых в ротное помещение, накормили, побрили и заодно заухаживали за Никишиной, коли она позволяла им это и доверчиво обращалась к ним. Ведь все ребята были сумасшедши молоды, жили одним ожиданием-приближением Победы, собой не дорожили, не хоронились, потому были задушевны, веселы. За милую женскую улыбку могли все отдать, нисколько не раздумывая. Подшучивали над Махаловым:
– А ты и в лазарете не пропал! Вон какую королеву отхватил. Не горюй!
И едва появился в помещении их командир-красавец капитан Карев, всем им стало ясно, что они могли быть лишь на заднем плане в сердце этой случайно залетевшей сюда прекрасной дивы.
Однако и тотчас Косте странно подумалось: «Да что я, пижон, расфуфырился, как тетерев на току. Уж если она, видно было, не клюнула и на Карева, сущего небожителя, то действительно у нее кто-то уже есть, она занята кем-то: она больно хороша для того, чтобы быть одной и пропадать так». И он заговаривал себя успокоиться по этому поводу, как в очевидном каком-то проигрыше.
Наутро, когда жесткий ветер задувал сухую морозную пыль, нес бумажные обрывки, трепал брезентовые верхи разбитых немецких грузовиков, оборванные карнизы домов, они выехали из Будапешта к югу, помчались вдоль западного берега Дуная. Мелькали постройки, пирамидальные тополя, пристани, баржи, затопленные корабли, лодочки; участились повороты, объезды, толчки. А южнее, возле города Дунафельдвар, стали попадаться и следы недавних жарких боев: обгорелые дома, деревья, поверженные танки, опрокинутые орудия, тягачи, прицепы, свежие воронки.
Именно сюда недавно и ударили последний раз из-за озера Балатон немецкие части, только что переброшенные из Италии – 12 танковых и 2 моторизованные дивизии – такой бронированный кулак. Немцы снова захватили временно Секешфехервар с нефтяными промыслами. Хмель воинственности ударил им в головы. Из окон захваченных наших эвакогоспиталей они выкидывали раненных, перебинтованных, беспомощных бойцов под гусеницы своих танков, позволяя себе подобное живодерство, какое линейные немецкие солдаты, воевавшие на восточном фронте, уже боялись делать. Это не может быть прощено никогда. Сколько бы западники ни гундосили об извечности их образцового гуманизма, такого, какого ни у кого больше нет.
Справа от шоссе и сейчас слышались звуки канонады и сотрясался воздух. Шоссе то отдалялось от Дуная, то вновь приближалось к нему.
Мучала жажда раненных Костю и Ивана. Они пили компот из жестяных банок, которые ловко вскрывал шофер ножом, а Никишина подавала их им, и подремывали, укачиваемые ездой, тарахтеньем автомашины и фронтовым погромыхиваньем.
Сколько ехали по венгерской территории, примерно столько же, если не больше, проехали и по югославской – более трехсот километров – через Нови-Сад, прежде чем въехали в Белград, освобожденный ровно три месяца назад, 20 октября 1944 года, совместно югославской и советской армиями. Речные мосты были взорваны, и нужно было ждать переправу через приток Дуная, чтобы попасть восточнее – в Морской стационар, расположившийся в городке Турну-Северине (Румыния).
Поэтому раненных матросов определили пока в югославский армейский госпиталь, занимавший большое угловое здание на проспекте, на носилках подняли на третий этаж.
VII
Медицинский госпитальный персонал вмиг узнал о поступивших сюда русских матросах – первых раненых при штурме Будапешта – оплота хортистов и салашистов, объявивших тоже Югославии войну в 1941 году – вслед за нападением на нее немецких войск и особенно зверствовавших напоследок в городе Нови-Саде. И эта весть, очевидно, быстро распространилась по Белграду.
В отдельной двухместной палате с отдельной ванной, с крашеными в ровный спокойный бежевый цвет стенами без панелей, Махалова положили на кровать к окну, откуда видны были лишь красные крыши и городские трущобы, а Гусева, более неподвижного, – ближе к выходу. И лежать здесь после утомительной дороги было приятно. Никто их не беспокоил. Если сюда направлялся врач, то он прежде, чем войти, вежливо стучал в дверь.
Но минуло немного времени, как вновь постучались к ним и голос приходившего уже врача сказал из-за двери, что пришел гость…