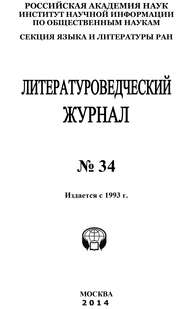скачать книгу бесплатно
Литературоведческий журнал №34 / 2014
Коллектив авторов
Литературоведческий журнал #34
В журнале публикуются научные статьи по истории отечественной и зарубежной литературы, по теории литературы, а также хроника литературной жизни и библиография по литературоведению.
Рукописи представляются в редакцию в печатном и электронном виде. К тексту статьи прилагаются: краткая аннотация на русском и английском языках и список ключевых слов, а также справка об авторе с указанием ученой степени, должности, места работы и контактной информации. Публикуемые рукописи рецензируются. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В журнале публикуются статьи, посвященные крупнейшим западным литературоведам, формированию в первой половине – середине XIX в. новых научных направлений и художественных методов, теорий литературных родов и жанров.
Для литературоведов, историков европейской культуры, преподавателей вузов.
Литературоведческий журнал № 34 / 2014
Русская словесность в мировом культурном контексте: IV Международный симпозиум (Москва, декабрь, 2012)
Байронизм и процессы жанрообразования в русской литературе начала XIX в
Л.П. Квашина
Аннотация
На материале элегии Пушкина «Погасло дневное светило…» показано, что «наложение» байронизма на русскую поэзию начала ХІХ в. приводит к их взаимодействию: элегическая система перестраивается – воспоминание предстает как род плена; байронический мотив тоже трансформируется – романтический порыв опустошается, превращаясь в стремление без надежды, бегство без освобождения. Для пушкинской поэзии такое взаимодействие оказывается творчески продуктивным – рождается новый, более сложный и противоречивый герой, который вскоре обретет развернутое воплощение в поэме «Кавказский пленник».
Ключевые слова: литературные влияния, байронизм, русская элегическая поэзия, элегический субъект, лирическая биография.
Kvashina L.P. Byronism and the Russian poetry of the beginning of the 19
century
Summary. The study of Pushkin’s elegy «Pogaslo dnevnoe svetilo…» shows that the interaction of the Russian poetry with Byronism in the beginning of the 19
century transformed them both: in the case of Russian elegiac system a reminiscence becomes a kind of captivity, and the romantic inspiration of Byronism turns into an aspiration without hope and an escape without liberation. For the Pushkin’s poetry this interaction appears to be very fruitful – a new hero, more complicated and dissonant, comes into the world – soon he will be embodied in the poem of «Kavkazskiy plennik».
Байронизм как сложный комплекс духовных, эстетических и личностных пересечений не сводится к вопросу о прямом влиянии байроновских текстов на творчество того или иного поэта. Эта проблема имеет более общий характер как по истокам, так и по творческим результатам. По словам В.Э. Вацуро, «духовная жизнь общества формируется по своим внутренним законам, и внешние воздействия не могут быть исходной точкой отсчета: они, как правило, не причина, а следствие. Не Шиллер породил «русское шиллерианство», а, напротив, «шиллерианство» – русского Шиллера: близость мироощущения создала предпосылки для его популярности»[1 - Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». – СПб.: Наука, 1994. – С. 27.]. Именно такой «механизм» культурных взаимодействий был определяющим стимулом формирования байронизма как «события русского духа» (В. Иванов), а также как арсенала новых поэтических тем, художественных форм и приемов.
Вопрос о влиянии Байрона на южное творчество Пушкина, при том что накоплен огромный материал исследовательских наблюдений и созданы фундаментальные труды, до сих пор сохраняет дискуссионный характер, а почти двухсотлетняя его история представляет широкую амплитуду колебаний различных, порой взаимоисключающих, мнений: от абсолютизации до формализации или даже нивелировки байроновского влияния. Это обусловлено прежде всего внутренними причинами, самим характером творческих отношений Пушкин – Байрон. С одной стороны, имеются прямые свидетельства современников и самопризнания Пушкина о безусловном воздействии на него английского романтика («с ума сходил от Байрона»), с другой – и это было очевидно уже для ближайшей критики – глубинное типологическое различие двух творческих индивидуальностей («трудно найти поэтов, более противоположных по натуре» (В. Белинский). Пушкинское «ученичество» – явление действительно неординарное, поскольку процесс освоения органически совмещался в нем с творческим преодолением важнейших установок и художественных принципов «учителя».
Что касается жанрового аспекта проблемы, то с байроновским влиянием традиционно связывают формирование в русской поэзии жанра романтической поэмы. Впрочем, ситуация и здесь не выглядит однозначной: изучение отечественного контекста убедительно указывает на внутренние возможности и стимулы для становления поэмы нового типа – речь идет прежде всего о традиции описательной поэмы и, конечно, о жанре элегии.
К 20-м годам XIX в. элегия потенциально была, так сказать, «чревата» большой формой: элегический субъект «нуждался» в геройной объективации и в событийном развертывании уже сложившейся в недрах жанра лирической биографии. Этот потенциал, как считают исследователи, и был реализован в творчестве Пушкина.
По словам Б. Томашевского, «южные поэмы Пушкина представляют собой монументальные элегии, инсценированные в речах и раздумьях героев и развернутые на фоне лирических описаний природы и «экзотической» местности, в которой развертывается скудное действие»[2 - Томашевский Б. Пушкин А.С.: Биография // Энциклопедический словарь библиографического ин-та «Братья А. и И. Гранат и К°». – Т. 34. – М., 1929. – С. 166.]. Данное суждение можно было бы принять в качестве жанровой формулы пушкинского лироэпоса, если бы, при всей его выразительности, оно не было слишком общим, т.е. отражающим все же более тенденцию, чем факт реального ее воплощения, – может быть, именно поэтому в таком категорическом виде в более поздних работах ученого этот тезис не повторялся.
Эстетическая значимость элегических форм и приемов включала в себя высокую степень мировоззренческой репрезентативности. Жанр элегии (в том виде, как он утвердился в поэзии начала века) представительствовал вполне определенный тип мироотношения – преромантический комплекс философских, моральных и эстетических ценностей – и был достаточно консервативным, мало расположенным к радикальным новациям. Элегический язык, по определению Л.Я. Гинзбург, представляет собой систему «штампов», «принципиальных и изначальных». Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: насколько органична для романтической тематики мировоззренчески насыщенная элегическая топика?
Итак, в русской поэзии начала века именно жанр элегии представлял разработанный язык «чувства и страсти», в то же время эта поэтическая система была достаточно замкнутой и непластичной. Важно поэтому не только констатировать связь новых поэтических форм с элегией, но, учитывая указанные особенности, попытаться понять характер и динамику их отношений. Опыт изучения южного творчества Пушкина свидетельствует о наличии здесь реальной проблемы: акцентирование байронизма в работах исследователей приводит к существенному ослаблению конструктивной роли элегической традиции, превращая «элегический язык» в средство для решения новых творческих задач; в свою очередь, повышенное внимание к элегической поэтике способно девальвировать байронизм – в этом случае параллели и пересечения сводятся фактически к типологическому подобию. Яркий тому пример – элегия «Погасло дневное светило…».
Первая южная элегия Пушкина традиционно воспринималась в байроновском ключе. Этому способствовали созданный самим поэтом ореол поэтической легенды (написана ночью, на корабле), новый для русской поэзии тип разочарованного, мятущегося героя, а также прямое авторское указание, помета в оглавлении пушкинского сборника 1826 г. – «подражание Байрону».
В то же время исследования показывают, что «Погасло…» обнаруживает многостороннюю связь с русской элегической школой и прежде всего с поэзией К. Батюшкова. Более того, по мнению О. Проскурина, речь в данном случае должна идти не просто об отдельных заимствованиях, но о «выделенности, рекурентности темы Батюшкова», о прямой ориентации пушкинского стихотворения на батюшковскую поэтическую систему как целое. В понимании исследователя, именно Батюшков – истинный и единственный предмет подражания Пушкина, а отсылка к Байрону – не более чем мистификационный жест, факт более поздней самооценки поэта[3 - Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. – М.: НЛО, 1999. – С. 56–67.].
Вопрос, таким образом, ставится достаточно категорично: или байронизм, или представительствуемая Батюшковым элегическая традиция.
Прежде всего заметим, что никто из современников не отреагировал на активизацию батюшковского контекста – вряд ли это было чем-то неожиданным и принципиально новаторским, зато сразу же были отмечены неожиданные повороты лирического сюжета, которые связывали с влиянием именно Байрона.
Пушкинская элегия – произведение многоплановое, и это, на наш взгляд, позволяет говорить о свого рода «метасюжете». Однако суть этого «метасюжета» мы бы определили не как «адаптация» батюшковской элегической системы, а как встреча, диалог элегической поэтики и байронического комплекса. Постараемся это показать.
Центром, структурирующим художественный мир пушкинской элегии, является событие воспоминания. Не случайно стих «Воспоминаньем упоенный…» отчетливо выделен в строе стихотворения синтаксически и особенно – ритмически. Пушкин использует достаточно редкую для начала ХІХ в. ритмическую вариацию ямба (vvv-vvv-v), которая ощутимо выделяется на фоне обычных стихов. Пропуск ударений на первой и третьей стопах создает, с одной стороны, эффект значимого замедления темпа, а с другой – энергетического усиления ударных слов и прежде всего ключевого слова – «воспоминанье». Ритмическая «курсивность» этого стиха особенно очевидна в сравнении с более нейтральным первым вариантом этой строки, который представляет собой наиболее распространенную форму ямба (v-v-vvv-v):
Сердечной думой упоенный[4 - Пушкин А.С. Полн. собр. соч: В 17 т. – М.: Воскресенье, 1994. – Т. ІІ (кн. 2) – С. 573.].
«Воспоминанье» семантически не просто конкретнее «думы» (дума о прошлом), но жанрово выразительнее, «элегичнее» что ли. Указанный стих усиливает ассоциативный жанровый фон, настраивая на определенные ожидания.
Весь строй пушкинского стихотворения (экспозиционный пейзаж, знаковое время суток, насыщенность элегическими формулами), в полном соответствии с законами элегической поэтики, направлен на то, чтобы «включить» «механизм памяти». Именно так организована элегия Батюшкова «Тень друга», на которую непосредственно ориентировано «Погасло…».
В стихотворении Батюшкова лирическое «я», как бы растворяясь в туманном мире, постепенно погружается в «сладкую задумчивость»:
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов…
И далее:
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил…
Лирический герой Батюшкова покидает «туманный берег Альбиона». Мечты о родине оживляют в его памяти образ погибшего друга:
Вся мысль моя была воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли <…>
И вдруг… то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне…[5 - Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. – М.: Наука, 1977 – С. 222.]
Обратим внимание на то, что объект, к которому устремляется герой, и субъект, о котором он «воспоминает», здесь не контрастируют, а, так сказать, «единонаправленны», обращены друг к другу, стремятся к воссоединению, независимо от того, их разделяет пространственная, временная или какая-нибудь другая граница. Элегический герой «воспоминает» то, что ему особенно дорого, с чем он связывает свои надежды и мечты, или то, что он хотел бы вернуть. Именно поэтому воспоминания чаще всего оживают в ситуации возвращения, в преддверии чаемого, желаемого соединения, даже если это оказывается лишь «мечтою».
Именно возвращением в дорогие и памятные места навеяны воспоминания в пушкинской незавершенной «Элегии» (1819):
Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный[6 - Пушкин А.С. Указ. соч. – Т. ІІ (кн. 1) – С. 72.].
В элегии «Погасло дневное светило…» развертывающийся лирический сюжет, на первый взгляд, вполне соответствует традиционной схеме: «Я вижу берег…» – «Туда стремлюся я, / Воспоминаньем упоенный…». Естественно ожидать, что «воспоминанье» навеяно приближением героя к желанной цели, к «волшебным краям полуденной земли». Но далее следует неожиданное и резкое расподобление объекта устремления и объекта воспоминания:
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей…[7 - Там же. – С. 135.]
Предметом «воспоминанья» лирического героя оказываются не «волшебные края полуденной земли», но «туманная родина». Кстати, именно эти стихи П. Вяземский отметил как явную «байронщизну».
Это композиционное «фуэте» является своеобразной радиантной точкой, векторы от которой расходятся как перспективно, направляя лирическое движение в новое русло, так и ретроспективно, заставляя по-иному оценить исходную ситуацию.
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…
Лирический герой Пушкина устремлен вперед, к «пределам дальным», но мысленно обращен назад, к прошлому, причем интенсивное пространственное удаление лишь усиливает горечь и драматизм ситуации. Сквозь элегическую топику начинает отчетливо прорастать мотив бегства:
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений…
Следует, однако, отметить, что мотив странствия, удаления от жизненных сует и пороков света на лоно природы, в частную жизнь является устойчивым элегическим мотивом. И его семантика всецело определяется преромантической системой ценностей, в которой категория памяти всегда, даже при нарастающем трагизме мироощущения, сохраняет безусловную онтологическую значимость.
У Батюшкова в «Тавриде», например, призыв «сокрыться» соотносится с движением «навстречу», а не «прочь» – навстречу мечте, желанному идеалу:
Друг милый! ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают…[8 - Батюшков К.Н. Указ. соч. – С. 167.]
Горечь прошлых переживаний здесь лишь обозначена, причем в самом общем виде («жребий жестокий»), зато будущая счастливая жизнь, говоря пушкинскими словами, «под небом сладостным полуденной земли», развернута в предельно выразительные картины: «Я вижу голос твой, я слышу…».
Мотив бессмысленности бегства настойчивым рефреном звучит в элегии «Разлука», которая, кстати, по мнению Б. Энгель-гарда, также входила в пушкинский кругозор во время работы над «Погасло дневное светило…»:
Напрасно покидал страну моих отцов…
Напрасно я скитался…
Напрасно я спешил от северных степей…
И в завершении:
Напрасно всюду мысль преследует одна –
О милой, сердцу незабвенной…[9 - Там же. – С. 164.]
В элегическом мире память вездесуща и священна, а ее утрата – это крах, безысходность, человеческая трагедия. Примером тому может служить «Судьба Одиссея» того же Батюшкова.
Обобщая, можно сказать: элегический герой – это бесприютный странник, а не беглец, одинокий изгнанник, разлученный со счастьем, но не мятущийся бунтарь. Именно поэтому резкое расподобление в пушкинском стихотворении объекта устремления и объекта воспоминания – свидетельство существенной трансформации элегической модели. Элегическое воспоминание и романтический побег представительствуют разные системы ценностей и, соответственно, разные художественные миры. Семантически это антиномичные концепты: если бегство установлено на забвение, то воспоминание – на возвращение, на восстановление утраченных связей. Поэтому их «встреча» в одном художественном пространстве не могла быть нейтральной.
В элегии Пушкина вступивший в свои права мотив бегства естественным образом разворачивается в тему забвения:
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златые,
И вы забыты мной…
Но парадокс заключается в том, что забвение прошлого, о котором настойчиво твердит герой, лишает побег какого-либо смысла. Бежать с тяжелым грузом обид и разочарований тяжело, но бежать от того, что уже забыто, – бессмысленно. Включенный в иную художественную систему байронический мотив внутренне ее драматизирует, но и сам утрачивает энергию и натиск. Финал стихотворения окрашен в унылые элегические тона:
…Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило…
Кольцевой рефрен замыкает лирический монолог, соотнося начало и конец и позволяя охватить лирический сюжет как целое. Размеренный ритм экспозиции по мере прояснения внутренних побуждений героя драматизируется, обретает внутренний напор и стремительность, а позиция героя – категоричность и решительность («Лети… неси…»). Однако, чем энергичнее порыв вперед, тем ощутимее притяжение пережитого, энергия памяти. Как результат – эффект «подвижной неподвижности». Герой словно зажат между двумя «берегами»: памятью и неограниченной свободой. Энергичный беглец оказывается пленником собственных заблуждений и ошибок. В такой ситуации «упоение воспоминаньем» – это не элегическое воспарение духом, не просветляющая медитация, но род плена. Романтический порыв тоже как будто опустошается – это стремление без надежды, бегство без освобождения.
Итак, «наложение» байронизма на «иной субстрат» – систему русской поэзии – приводит к их взаимодействию, в результате чего элегическая система начинает перестраиваться, событие «воспоминания» наполняется иным содержанием; но и байронический мотив, как мы пытались показать, тоже трансформируется. Важно отметить, что это взаимодействие для пушкинской поэзии оказывается творчески продуктивным – как результат рождается новый, более сложный и противоречивый герой, который вскоре обретет развернутое воплощение в поэме «Кавказский пленник». Как известно, современная Пушкину критика поэму почти единодушно хвалила, а Пленника ругала, как не вполне отвечающего представлениям о «герое романтического стихотворения». Но этому есть объяснения – он сформирован в иной, по сравнению с байроновским героем, среде – в лоне активного взаимодействия романтических веяний с элегической поэтикой.
Автопортреты в эпических произведениях А.С. Пушкина
И.А. Балашова
Аннотация
Автопортреты в прозе Пушкина вторят его поэтическим и графическим карикатурам и вызваны иронией по поводу ситуаций литературной жизни («Гробовщик»), гротескным представлением отрицательного персонажа («Капитанская дочка»), самоиронией («Египетские ночи»). Обращаясь к своей внешности и характеру, Пушкин обнажал трагикомическую суть бытия. Вместе с тем веселое, ироничное или самокритичное присутствие автора гармонизирует образный мир созданных Пушкиным эпических произведений.
Ключевые слова: портрет, автопортрет, лирическое «я», автор, персонаж, ирония, карикатура.
I.A. Balashova. Self-portraits in A.S. Pushkin’s epics
Summary. Self-portraits in the prose of Pushkin echo his poetic and graphic caricatures and are caused eigther by his ironic attitude to some situations of literary life («The Coffin maker»), or grotesque concept of the negative character («The Captain’s daughter»), or self-irony («The Egyptians nights»). Addressing to his own appearance and character Pushkin naked a tragicomic essence of life. At the same time cheerful, ironic or self-critical presence of the author harmonizes the world of Pushkin’s epics.
Создавая портреты, а иногда и автопортреты в лирике, Пушкин выражал чувства и мысли лирического «я», не описывая подробно его внешность и поведение.
В лироэпических произведениях автор соотнесен с героем[10 - См.: Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. – Т. 1. – СПб., 1998. – С. 53, 100, 129; Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи / В.К. Кюхельбекер. – М., 1979. – С. 99–100.]. Об основном персонаже поэмы «Кавказский пленник» поэт писал: он доказывает, что «я не гожусь в герои романтического стихотворения»[11 - Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л., 1977–1979. – Т. 5. – С. 44. Далее ссылки на это издание даны с указанием тома и страницы.]. В романе «Евгений Онегин» Пушкин придал свои свойства образам героев. Вместе с тем в пушкинских поэмах, повестях и романах созданы и автопортреты. Выслушав чтение В. Жуковским произведения «Ибрагим, царский Арап» в апреле 1837 г., С. Карамзина писала о главном герое: «…многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина»[12 - Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 2. – СПб., 1998. – С. 392.]. Пушкинские автопортреты имеют особую поэтику и играют значительную роль в его крупных творениях.
Так, интригующая неясность сути характера Онегина поддержана в романе Пушкина представлением себя – автором, участником сюжета, биографической личностью. Однако черт лица Пушкина и Онегина в произведении нет. Для автора было важно сохранить образную недосказанность. В письме брату он послал зарисовку, где поэт повернут спиной к зрителю. Рисунок А. Нот-бека, развернувшего Пушкина, вызвал его неудовольствие. Автопортрет поэта лишь намек, что делает его ироничным, и под рисунком рядом с номером «1», обозначившим автора, написано: «Хорош»[13 - Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. – Т. 18 (дополнит.). – Рисунки. – М., 1996. – С. 32.]. Особенности автопортретов романа и рисунка выявили одно характерное свойство поэта.
Среди графических зарисовок Пушкина немало шаржей и карикатур. Они ценились друзьями и знакомыми поэта[14 - Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 86, 327.]. В графических карикатуре и шарже как ее разновидности при сохранении сходства утрированы те или иные черты внешности и выражено оценочное отношение к портретируемому. Таковы у Пушкина портреты, например, М. Воронцова, Д. Давыдова, А. Раевского, П. Вяземского, Ел. Ушаковой[15 - Жуйкова Р.Г. Портретные рисунки Пушкина. Каталог атрибуций. – СПб., 1996. – С. 107, 110, 297, 130, 347.]. Ф. Шлегель писал: «Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса»[16 - Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1968. – С. 61.]. Склонность Пушкина к юмору обусловлена ценимой им свободой творческого проявления.
В лирике, представлявшей знакомых поэта, нет конкретных черт внешности («К портрету Чаадаева», «К портрету Жуковского», «К портрету Каверина», «К портрету Вяземского»). Появление же их, как правило, сопровождалось юмором, иронией или сарказмом. Это видим в стихах разных лет, например, в экспромте «И останешься с вопросом…», в посланиях «Денису Давыдову», «Давыдову», «Ел.Н. Ушаковой», стихах «Подъезжая под Ижоры», «Зима. Что делать нам в деревне?..», «Румяный критик мой…», «Моя родословная», «Когда за городом задумчив я брожу…». Те же приемы выразительны в эпиграммах, например, «О, муза пламенной сатиры…», «На Колосову», «На Каченовского». Разумеется, конкретные черты знакомых могли и не сопровождаться ироничной оценкой, но такие стихи малочисленны. Среди них «Наперсница волшебной старины…», «Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…», «19 октября», «Няне», «К вельможе», «Когда в объятия мои…», «Полководец», «На статую играющего в свайку».
Существенно то, что автопортреты в лирике поэта всегда даны с иронией. Таково стихотворение «Mon portrait», послания «N.N. (В.В. Энгельгардту)», «Юрьеву», «To Dawe ESQ
».
Интересно, что и образ Ленского, автобиографичный для молодого Пушкина и имеющий описание внешности («кудри черные до плеч»), наделен свойством карикатуры[17 - Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 130.].
В романе об арапе Корсаков отговаривает Ибрагима от женитьбы, и в числе доводов такие: «…с твоим сплющенным носом и вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..» (VI, 37).
Иронию и приемы карикатуры видим и в графических автопортретах Пушкина. Поэт зарисовывает себя в виде дворцового скорохода, в виде женщины, в образе лошади[18 - Жуйкова Р.Г. Указ. соч. – С. 49, 51.]. С годами графические автопортреты все чаще ироничны: поэт предстает в образе старика, горца, Данте, увенчанного лавровым венком[19 - Там же. – С. 50, 59, 67.].
Те же особенности предстают в автопортретах, созданных в повестях и романах Пушкина. Помимо повести об арапе это образы произведений «Гробовщик», «Капитанская дочка» и «Египетские ночи».
Пушкина всегда интересовали разнообразные характеры, но он с особой настойчивостью обращался к своему облику при создании образов героев поэм, повестей и романов.
В сравнении с лирикой в эпическом произведении возможно развернутое представление своей внешности и характера. Добивался ли Пушкин конкретизации образа или это был самоанализ?
В рукописи повести о гробовщике видим иллюстрацию с элементами шаржа[20 - Балашова И.А. Нарисовал Ал. Пушкин. – Ростов н/Д., 1999. – С. 16–20.]. Пушкин здесь узнаваем: у сапожника густые бакенбарды, веселое выражение лица, и перед нами общительный человек. Напротив него гробовщик и он же Плетнев, издатель пушкинских произведений. Сапожник в роли просителя, он приглашает гробовщика на юбилей. И так же Пушкин зависим от издателя, усилия которого определяют судьбу произведения. Зарисовка вторит иронии сюжетного действия, где подчеркнута цеховая принадлежность основных героев, которой Прохоров гордится и в то же время готов ею вторично поступиться из-за денежных трудностей, связанных с новосельем. Но какова роль ироничного автопортрета в повести?
В ней почти нет изображения лиц персонажей, пребывающих в мире живых; упомянуты лишь «свежее лицо» сорокалетней Луизы, супруги Шульца, и представлен напившийся переплетчик, «коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете» (VI, 84, 85). Вместе с тем, привлекая широкий литературный контекст, автор подчеркивает: Адриан Прохоров угрюм и задумчив. Отказавшись от яркого контраста героев Шекспира и Скотта, Пушкин создал новый, вторящий известному. Он показал веселым, общительным, говорливым сапожника. Упоминание английских авторов, эпиграф из Державина, ссылка на Погорельского, цитирование сказки Измайлова создают литературный контекст повести, пародирующей роман Булгарина о Выжигине[21 - Балашова И.А. Русская литература 1800–1860-х годов в вузовском изучении. – Ростов н/Д., 2006. – С. 113–131.], и обращающей этим к литературным спорам, в том числе спору Пушкина и Булгарина. Именно этот контекст усилен рисунком, в котором герои повести, не имеющие лиц и отождествленные многократными называниями «сапожник», «гробовщик» с их профессией, обрели лица и предстали пребывающими в диалоге литераторами. На рисунке изображен веселый, общительный, остроумный Пушкин в образе сапожника немца, имеющего русский курносый нос и бакенбарды автора пародийной повести.
Вторым на рисунке показан Плетнев в образе угрюмого гробовщика, и в этой множественности образов и обликов профессионалов, их диалога и споров, в этом нарастании комического предстает определенным же образом интонированный диалог-спор с автором романа «Иван Выжигин», о «мертвой безжизненности» которого писал Н. Надеждин[22 - Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. – М., 1979. – С. 76.].
Многоплановость иронической и сатирической канвы повести, написанной в Болдине первой из всех вошедших в цикл, сопоставима с умением Пушкина рисовать себя веселым. Не менее совершенен и так же важен для создания образа героя ироничный автопортрет в романе «Капитанская дочка». Перед приехавшим в крепость Гринёвым Швабрин, и он узнаваем: это «молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым <…> Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба…» (VI, 277).
Облику и поведению Швабрина писатель придал полное сходство с собой. Важно при этом, что Швабрин отрицательный герой, но Пушкин не стремится скрыть свой прием. Однако им не исчерпывается описание внешности героя, а главное – его поведения и характера. Портрет Швабрина, и он же автопортрет Пушкина, дискретен, не полон. Эта, определенная иронией и даже шаржем, дискретность вскоре проявляется. Основа же созданного облика – его автопортретность, очевидно, камертон для восприятия героя в ироничном, а затем сатирическом, гротескном ключе.
А. Мицкевич, отметивший в своих лекциях «изумительную красоту» пушкинской прозы, говорил: «Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои»[23 - Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 129.]. В романе меняется интонация при показе поведения героя.