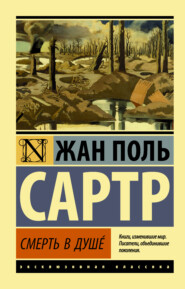скачать книгу бесплатно
Смерть в душе
Жан-Поль Сартр
Дороги свободы #3Эксклюзивная классика (АСТ)
«Смерть в душе» – третий роман после «Возраста зрелости» и «Отсрочки» в трилогии Сартра «Дороги свободы». Временем действия этого произведения стал один из самых горьких и трагических периодов французской истории – лето 1940 г., когда французская армия потерпела разгромное поражение от немецко-фашистских войск и вся страна, растерянная и деморализованная, будто застыла в приступе кататонии, не понимая, как жить и что делать теперь.
С горечью осознает главный герой романа, университетский преподаватель Матье, сколь ничтожны его рефлексии и его поиски личной свободы перед лицом национальной катастрофы, – но постепенно понимает, что именно это духовное чистилище может закалить его и принести ему новый смысл жизни…
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Жан Поль Сартр
Смерть в душе
Jean-Paul Sartre
LA MORT DANS L’AME (LES CHEMINS DE LA LIBERTE III)
Перевод с французского Д. Вальяно, Л. Григорьяна
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
© Editions Gallimard, Paris, 1949
© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2013
© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2013
© Издание на русском языкеАSТ Publishers, 2018
Часть первая
Нью-Йорк, 9 часов утра, суббота, 15 июня 1940 г.
Спрут? Он взял нож, открыл глаза, это был сон. Нет. Спрут был здесь, он его всасывал своими щупальцами: жара. Он потел. Он уснул к часу ночи; в два часа жара его разбудила, весь в поту, он бросился в холодную ванну, затем, не вытираясь, снова лег: и сразу же после этого под его кожей опять загудела кузница, его снова бросило в пот. На заре он уснул, ему снился пожар, теперь солнце, конечно, было уже высоко, а Гомес все потел: он без передышки потел уже двое суток. «Боже мой!» – вздохнул он, проводя влажной рукой по мокрой груди. Это была уже не жара; это была болезнь атмосферы: у воздуха была горячка, воздух потел, и ты потел в его поту. Встать. Лучше уж потеть в рубашке. Он встал. «Hombre![1 - Вот это да! (исп.)] У меня кончились рубашки!» Он промочил последнюю, голубую, так как вынужден был переодеваться дважды в день. Теперь кончено: он будет напитывать эту влажную вонючую тряпку, пока белье не вернется из прачечной. Он осторожно встал, но не смог избежать водопада, капли катились по бокам, как вши, они его щекотали. Изжеванная рубашка, в сплошных складках, на спинке кресла. Он ее пощупал: ничто никогда не высыхает в этой блядской стране. Сердце его колотилось, горло одеревенело, словно он накануне напился.
Он надел брюки, подошел к окну и раздвинул шторы: на улице свет, белый, как катастрофа; и впереди еще тринадцать часов света. Он с тревогой и гневом посмотрел на мостовую. Та же катастрофа; там, на жирной черной земле, под дымом, кровью и криками; здесь, между красными кирпичными домиками свет, именно свет и обильный пот. Но это была та же самая катастрофа. Смеясь, прошагали два негра, женщина вошла в аптеку. «Боже мой! – вздохнул он. – Господи!» Он видел, как кричали все эти краски: даже если бы у меня было время, даже если бы у меня было настроение, как можно рисовать с этим светом! «Господи! – повторил он. – Господи!»
Позвонили. Гомес пошел открывать. На пороге стоял Ричи.
– Убийственно, – входя, сказал Ричи.
Гомес вздрогнул:
– Что?
– Эта жара: убийственно. Как, – с упреком добавил он, – ты еще не одет? Рамон ждет нас к десяти часам.
Гомес пожал плечами:
– Я поздно заснул.
Ричи, улыбаясь, посмотрел на него, и Гомес живо добавил:
– Слишком жарко. Я не мог уснуть.
– Первое время всегда так, – снисходительно сказал Ричи. – Потом привыкнешь. – Он внимательно посмотрел на него. – Ты принимаешь солевые пилюли?
– Естественно, но толку никакого.
Ричи покачал головой, и его доброжелательность оттенилась строгостью: солевые таблетки должны были мешать потеть. Если они не действовали на Гомеса, значит, он был не таким, как все.
– Но позволь! – сказал он, хмуря брови. – Ты ведь должен быть натренирован: в Испании тоже жарко.
Гомес подумал о сухих и трагических утрах Мадрида, об этом благородном свете над Алькалой, в котором была еще надежда; он покачал головой:
– Это не та жара.
– Менее влажная, да? – с некоей гордостью спросил Ричи.
– Да. И более человечная.
Ричи держал газету; Гомес протянул было руку, чтобы взять ее, но не осмелился. Рука опустилась.
– Нынче большой день, – весело сказал Ричи, – праздник Делавэра. Ты знаешь, я ведь из этого штата.
Он открыл газету на тринадцатой странице; Гомес увидел фотографию: мэр Нью-Йорка Ла Гардиа пожимал руку толстому мужчине, оба самозабвенно улыбались.
– Этот тип слева – губернатор Делавэра, – пояснил Ричи. – Ла Гардиа принял его вчера в World Hall[2 - Всемирный зал (англ.).]. Это было превосходно.
Гомес хотел вырвать у него газету и посмотреть на первую страницу. Но подумал: «Плевать» – и прошел в туалет. Он пустил в ванну холодную воду и быстро побрился. Когда он залезал в ванну, Ричи ему крикнул:
– Как ты?
– Исчерпал все средства. У меня больше нет ни одной рубашки, и осталось всего восемнадцать долларов. И потом, в понедельник возвращается Мануэль, я должен вернуть ему квартиру.
Но он думал о газете: Ричи, ожидая его, читал; Гомес слышал, как он шелестит страницами. Он старательно вытерся; все напрасно: вода сильно намочила полотенце. Он с дрожью надел влажную рубашку и вернулся в спальню.
– Матч гигантов.
Гомес непонимающе посмотрел на Ричи.
– Вчерашний бейсбол. «Гиганты» выиграли.
– Ах да, бейсбол…
Гомес наклонился, чтобы зашнуровать туфли. Он снизу пытался прочесть заголовок на первой странице. Наконец он спросил:
– А что Париж?
– Ты не слышал радио?
– У меня нет радио.
– Кончен, пропал, – мирно сказал Ричи. – Они вошли туда сегодня ночью.
Гомес направился к окну, прильнул лбом к раскаленному стеклу, посмотрел на улицу, на это бесполезное солнце, на этот бесполезный день. Отныне будут только бесполезные дни. Он повернулся и тяжело сел на кровать.
– Поторопись, – напомнил Ричи. – Рамон не любит ждать.
Гомес встал. Рубашка уже вымокла насквозь. Он пошел к зеркалу завязать галстук:
– Он согласен?
– В принципе – да. Шестьдесят долларов в неделю за твою хронику выставок. Но он хочет тебя видеть.
– Увидит, – сказал Гомес. – Увидит.
Он резко обернулся:
– Мне нужен аванс. Надеюсь, он не откажет?
Ричи пожал плечами. Через некоторое время он ответил:
– Я ему говорил, что ты из Испании, и он опасается, как бы ты не оказался сторонником Франко; но я ему не сказал о… твоих подвигах. Не говори ему, что ты генерал: неизвестно, что у него на душе.
Генерал! Гомес посмотрел на свои потрепанные брюки, на темные пятна, которые пот уже оставил на рубашке. И с горечью проговорил:
– Не бойся, у меня нет желания хвастаться. Я знаю, чего здесь стоит, что ты воевал в Испании: вот уже полгода, как я без работы.
Казалось, Ричи был задет.
– Американцы не любят войну, – сухо пояснил он.
Гомес взял под мышку пиджак:
– Пошли.
Ричи медленно сложил газету и встал. На лестнице он спросил:
– Твоя жена и сын в Париже?
– Надеюсь, что нет, – живо ответил Гомес. – Я очень надеюсь, что Сара сообразит бежать в Монпелье.
Он добавил:
– У меня нет о них известий с первого июня.
– Если у тебя будет работа, ты сможешь их вызвать к себе.
– Да, – сказал Гомес. – Да, да. Посмотрим.
Улица, сверкание окон, солнце на длинных плоских казармах из почерневшего кирпича без крыши. У каждой двери ступеньки из белого камня; марево зноя со стороны Ист-Ривер; город выглядел хиреющим. Ни тени: ни на одной улице мира не чувствуешь себя так ужасно, весь на виду. Раскаленные добела иголки вонзились ему в глаза: он поднял руку, чтобы защититься, и рубашка прилипла к коже. Он вздрогнул:
– Убийственно!
– Вчера, – говорил Ричи, – передо мной рухнул какой-то бедняга старик: солнечный удар. Брр, – поежился он. – Не люблю видеть мертвых.
«Поезжай в Европу, там насмотришься», – подумал Гомес.
Ричи добавил:
– Это через сорок кварталов. Поедем автобусом.
Они остановились у желтого столба. Молодая женщина ждала автобус. Она посмотрела на них опытным угрюмым взглядом, потом повернулась к ним спиной.
– Какая красотка, – ребячески заметил Ричи.
– У нее вид потаскухи, – с обидой буркнул Гомес.
Он почувствовал себя под этим взглядом грязным и потным. Она не потела. Ричи тоже был розовым и свежим в красивой белой рубашке, его вздернутый нос едва блестел. Красавец Гомес. Красавец генерал Гомес. Генерал склонялся над голубыми, зелеными, черными глазами, затуманенными трепетом ресниц; потаскуха увидела только маленького южанина с полсотней долларов в неделю, потеющего в костюме из магазина готового платья. «Она меня приняла за даго»[3 - Мексиканец (амер. жаргон).]. Тем не менее он посмотрел на красивые длинные ноги и снова покрылся потом. «Четыре месяца, как я не имел женщины». Когда-то желание пылало сухим солнцем у него в животе. Теперь красавец генерал Гомес упивался постыдными и тайными вожделениями зрителя.
– Сигарету хочешь? – предложил Ричи.
– Нет. У меня горит в горле. Лучше б выпить.
– У нас нет времени.
Он со смущенным видом похлопал его по плечу.
– Попытайся улыбнуться, – сказал он.
– Что?
– Попытайся улыбнуться. Если Рамон увидит у тебя такую физиономию, ты нагонишь на него страх. Я не прошу тебя быть подобострастным, – живо добавил он в ответ на недовольный жест Гомеса. – Войдя, ты приклеишь к губам совершенно нейтральную улыбку и там ее и забудешь; в это время ты можешь думать о чем хочешь.
– Хорошо, я буду улыбаться, – согласился Гомес.
Ричи участливо посмотрел на него.
– Ты тревожишься из-за сына?
– Нет.
Ричи сделал тягостное мыслительное усилие.
– Из-за Парижа?
– Плевать мне на Париж! – запальчиво выкрикнул Гомес.