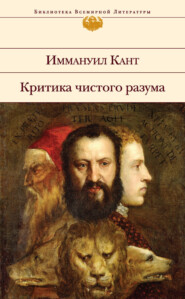скачать книгу бесплатно
Критика чистого разума
Иммануил Кант
«Критика чистого разума» – фундаментальный труд величайшего философа Иммануила Канта, ставший поворотной точкой в истории мировой научной и философской мысли. Основатель критического идеализма, родоначальник немецкой классической философии, один из ведущих мыслителей эпохи Просвещения, Иммануил Кант внес неоценимый вклад в развитие современной философской традиции, оказавший огромное влияние на умы европейцев и работы позднейших идеалистов – Фихте, Шеллинга, Гегеля.
Иммануил Кант
Критика чистого разума
ВАСО de VERULAMIO. Instauratio magna. Praefatio
De nobis ipsis silemus. De re autem, quae agitur, petimus: ut homines earn non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae nos alicujus aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis aequi… in commune consulant… et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant et animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus[1 - Кант приводит слова английского философа-материалиста Бэкона (Bacon Francis, 1561–1626) из предисловия к «Новому органону» (см.: Бэкон Фр. Новый органон. М., 1938. С. 15).Бэкон Веруламский. Великое восстановление. Предисловие. О самих себе мы молчим; но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом и были уверены в том, что здесь полагаются основания не какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого. Затем, чтобы они… сообща пеклись о своем преуспеянии и… приняли и сами участие в тех трудах, которые еще предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении наше восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания.].
Перевод с немецкого Н. Лосского
Сверен и отредактирован Ц. Арзаканяном и М. Иткиным
Примечания Ц. Арзаканяна
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Его превосходительству
королевскому государственному министру
барону фон ЦЕДЛИЦУ[2 - Цедлиц (Freiherr von Zedlitz, Karl Abraham, 1731–1793) – приближенный Фридриха Второго, министр просвещения Пруссии (1771–1788 гг.). Слыл покровителем наук, в частности философии. Высоко ценил Канта как ученого и человека. Дважды предлагал ему кафедру философии в университете Галле (одном из ведущих в тогдашней Германии), а также титул придворного советника.]
Милостивый государь!
Содействовать росту наук – значит трудиться в собственных интересах Вашего превосходительства; с интересами науки Вас теснейшим образом связывает не только Ваш высокий пост покровителя наук, но и гораздо более близкое отношение любителя и глубокого знатока. Поэтому я пользуюсь единственным находящимся до известной степени в моем распоряжении средством выразить свою благодарность за милостивое доверие, которым Вы почтили меня, предполагая, что я чем-то могу содействовать этой цели.
Милостивому вниманию, которым Вы, Ваше превосходительство, удостоили первое издание моего сочинения, я посвящаю теперь это второе издание, а также все относящееся к моему литературному призванию и с глубоким уважением имею честь быть
Вашего превосходительства покорнейший слуга
ИММАНУИЛ КАНТ
Кенигсберг, 23 апреля 1787 г.
Предисловие к первому изданию
На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума.
В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой[3 - Метафизика (от древнегреческих цеха – после, вслед за и ?????? – природа). – Первоначально метафизикой стали называть (Андроник Родосский, Николай Дамасский) труды Аристотеля, поставленные его учениками в списке его трудов после «Физики» (и поэтому та цеха та срошка, т. e. «то, что после физики» – «Метафизика»). В дальнейшем, поскольку в «Метафизике» были собраны те сочинения Аристотеля, в которых рассматривались собственно философские проблемы (в частности, проблемы сущего, бытия, познания, начал. Сам Аристотель называл это свое сочинение «Первой философией»), слово «метафизика» стало синонимом, как мы говорим, фундаментальных проблем философии, тем самым определенная разница между ними сохранилась. Метафизика была главным образом умозрительной сферой познания идеальных сущностей и объединяла «высшие» проблемы онтологии и гносеологии, рассматривая их совершенно оторванно от более «приземленных» философских проблем.В Средние века, особенно после распространения трудов Фомы Аквинского, метафизика была канонизирована и превращена в систему бесплодных догм и схем. Непродуктивность старой метафизики наиболее ярко выявилась в Новое время, в эпоху бурного развития теоретического и экспериментального естествознания и общественных наук, почему она и стала «жалкой нищенкой» наподобие гомеровской Гекубы, растерянной и беспомощной в новой ситуации после падения Трои. Сама философская мысль, однако, никогда не угасала как неустранимая сфера человеческого мышления, и уже в XVIII веке некоторые философы (Юм, французские материалисты) и историки философии стали проводить отчетливую грань между метафизикой и философией.Кант критикует схоластическую метафизику как познание, совершенно оторванное от опытного знания, так как всякая наука, находящаяся за пределами «возможного опыта», является, по Канту, пустой видимостью. Отбрасывая метафизику в старом ее понимании, Кант считает действительным ее предметом чистое априорное познание, а истинной ее задачей – исследование априорных синтетических знаний и их возможности.].
Было время, когда метафизика называлась царицей всех наук, и если принимать желание за действительность, то она, конечно, заслуживала этого почетного названия ввиду большого значения своего предмета. В наш век, однако, вошло в моду выражать к ней полное презрение, и эта матрона, отвергаемая и покинутая, жалуется подобно Гекубе: modo maxima rerum, tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops (Ovid., Metam.)[4 - Недавно во всем изобильна,Стольких имев и детей, и зятьев, и невесток, и мужа,Пленницей нищей влачусь…(Овидий. Метаморфозы. М. – Л.: Academia, 1937. Кн. XIII, 505, 510). Кант приводит из «Метаморфоз» Овидия (Publius Ovidius Naso, 43 до н. э. – 17 н. э.) жалобы Гекубы, жены Приама, царя разрушенной греками Трои. Гекуба вспоминает свое былое величие и счастье и оплакивает горькую участь нищей, бесправной, осмеиваемой всеми пленницы.].
Вначале, в эпоху догматиков, господство метафизики было деспотическим. Но так как законодательство носило еще следы древнего варварства, то из-за внутренних войн господство метафизики постепенно выродилось в полную анархию, и скептики – своего рода кочевники, презирающие всякое постоянное возделывание почвы, – время от времени разрушали гражданское единство. К счастью, однако, их было мало, и они поэтому не могли мешать догматикам вновь и вновь приниматься за работу, хотя и без всякого согласованного плана. Правда, в Новое время был момент, когда казалось, что всем этим спорам должен был быть положен конец некоторого рода физиологией человеческого рассудка[5 - Физиология человеческого рассудка. – Во времена Канта под физиологией (от древнегреческих ????? – природа и ????? – учение) понимали учение о природе, т. е. естествознание. В данном месте под физиологией человеческого рассудка Кант подразумевает механизм, или структуру, рассудка, данную английским философом XVII в. Дж. Локком в его сочинении «An Essay Concerning Human Understanding» («Опыт о человеческом разуме». См.: Дж. Локк. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1960).] ([разработанной] знаменитым Локком) и что правомерность указанных притязаний метафизики вполне установлена. Однако оказалось, что, хотя происхождение этой претенциозной царицы выводилось из низших сфер простого опыта и тем самым должно было бы с полным правом вызывать сомнение относительно ее притязаний, все же, поскольку эта генеалогия в действительности приписывалась ей ошибочно, она не отказывалась от своих притязаний, благодаря чему все вновь впадало в обветшалый, изъеденный червями догматизм[6 - Догматизм, по мнению Канта, – это совокупность принципов, руководствуясь которыми философ считает, что человеческий разум, пользуясь системой определенных установленных положений, в состоянии познать всю действительность в целом. Строя на этом свою метафизику, такой философ-догматик – и это самое важное, с точки зрения Канта, – не ставит себе ни цели, ни задачи проверить познавательные возможности самого? чистого разума. Ни один догматик, утверждает Кант, никогда не ставил вопроса, возможно ли действительное познание посредством одного лишь чистого разума и каковы границы познавательных возможностей этого разума. Постановку и решение этой проблемы Кант считал основной задачей «Критики чистого разума».]; поэтому метафизика опять стала предметом презрения, от которого хотели избавить науку. В настоящее время, когда (по убеждению многих) безуспешно испробованы все пути, в науке господствует отвращение и полный индифферентизм – мать Хаоса и Ночи, однако в то же время заложено начало или по крайней мере появились проблески близкого преобразования и прояснения наук, после того как эти науки из-за дурно приложенных усилий сделались темными, запутанными и непригодными.
В самом деле, напрасно было бы притворяться безразличным к таким исследованиям, предмет которых не может быть безразличным человеческой природе. Ведь и так называемые индифферентисты, как бы они ни пытались сделать себя неузнаваемыми при помощи превращения ученого языка в общедоступный, как только они начинают мыслить, неизбежно возвращаются к метафизическим положениям, к которым они на словах выражали столь глубокое презрение. Однако указанное безразличие, возникшее в эпоху расцвета всех наук и затрагивающее как раз тех, чьими познаниями, если бы они имелись, менее всего следовало бы пренебрегать, представляет собой явление, заслуживающее внимания и раздумья. Совершенно очевидно, что это безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения[1 - Нередко мы слышим жалобы на поверхностность способа мышления нашего времени и на упадок основательной науки. Однако я не нахожу, чтобы те науки, основы которых заложены прочно, каковы математика, естествознание и другие, сколько-нибудь заслужили этот упрек; скорее наоборот, они еще больше закрепили за собой свою былую славу основательности, а в естествознании даже превосходят ее. Этот дух мог бы восторжествовать и в других областях знания, если бы позаботились прежде всего улучшить их принципы. При недостатке таких принципов равнодушие и сомнение, а также строгая критика служат скорее доказательством основательности способа мышления. Наш век есть подлинный век критики, которой должно подчиняться все. Религия на основе своей святости и законодательство на основе своего величия хотят поставить себя вне этой критики. Однако в таком случае они справедливо вызывают подозрение и теряют право на искреннее уважение, оказываемое разумом только тому, что может устоять перед его свободным и открытым испытанием.] нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий – за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума.
Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов.
Этим единственным оставшимся путем пошел я теперь и льщу себя надеждой, что на нем я нашел средство устранить все заблуждения, которые до сих пор ссорили разум с самим собой при его независимом от опыта применении. Я не уклонился от поставленных человеческим разумом вопросов, оправдываясь его неспособностью [решить их]; я определил специфику этих вопросов сообразно принципам и, обнаружив пункт разногласия разума с самим собой, дал вполне удовлетворительное решение их. Правда, ответ на эти вопросы получился не такой, какого ожидала, быть может, догматически-мечтательная любознательность; ее могло бы удовлетворить только волшебство, в котором я не сведущ. К тому же и естественное назначение нашего разума исключает такую цель, и долг философии состоял в том, чтобы уничтожить иллюзии, возникшие из-за ложных толкований, хотя бы ценой утраты многих признанных и излюбленных фикций. В этом исследовании я особенно постарался быть обстоятельным и смею утверждать, что нет ни одной метафизической задачи, которая бы не была здесь разрешена или для решения которой не был бы здесь дан по крайней мере ключ. Чистый разум и на самом деле есть такое совершенное единство, что если бы принцип его был недостаточен для решения хотя бы одного из вопросов, поставленных перед ним его собственной природой, то его пришлось бы отбросить целиком, так как он оказался бы непригодным для верного решения и всех остальных вопросов.
Говоря так, я мысленно вижу на лице читателя смешанное с презрением недовольство по поводу таких с виду хвастливых и нескромных притязаний. Между тем они несравненно скромнее, чем притязания какого-нибудь автора самой обыкновенной программы, в которой он уверяет, что доказал простую природу души или необходимость начала мира. В самом деле, такой автор берется расширить человеческое знание за пределы всякого возможного опыта, тогда как я скромно признаюсь, что это совершенно превосходит мои силы. Вместо этого я имею дело только с самим разумом и его чистым мышлением, за обстоятельным знанием которых мне незачем ходить далеко, так как я нахожу разум в самом себе, и даже обыкновенная логика дает мне примеры того, что все простые его действия могут быть вполне и систематически перечислены. Но здесь возникает вопрос, чего я могу достигнуть посредством разума, если я не прибегаю к помощи опыта и к его данным.
Это все, что мы хотели сказать относительно полного достижения каждой цели и относительно обстоятельности в достижении всех целей вместе взятых, которые поставлены перед нами не чьим-то предписанием, а природой самого познания, составляющего предмет нашего критического исследования.
Далее, что касается формы исследования, то достоверность и ясность принадлежат к числу существенных требований, которые справедливо могут быть предъявлены автору, отваживающемуся на такое опасное начинание.
Что касается достоверности, то я сам вынес себе следующий приговор: в такого рода исследованиях никоим образом не может быть позволено что-либо лишь предполагать, в них все, что имеет хотя бы малейшее сходство с гипотезой, есть запрещенный товар, который не может быть пущен в продажу даже по самой дешевой цене, а должен быть изъят тотчас же после его обнаружения. Ведь всякое познание, устанавливаемое a priori, само заявляет, что оно требует признания своей абсолютной необходимости; тем более должно быть таковым определение всех чистых априорных знаний, которое должно служить мерилом и, следовательно, примером всякой аподиктической (философской) достоверности. Выполнил ли я в этом отношении то, за что взялся, об этом я полностью предоставляю судить читателю, так как автору приличествует только показать основания, но не высказывать свое мнение о том, какое действие они оказывают на его судей. Но для того чтобы какое-нибудь случайное обстоятельство не ослабило этого действия, пусть автору будет предоставлено право самому отмечать места, которые могли бы дать повод к некоторому недоверию, хотя они имеют отношение лишь к побочным целям; это необходимо для того, чтобы своевременно остановить то влияние, которое могли бы иметь на суждение читателя относительно главной цели даже малейшие сомнения его в этом пункте.
Я не знаю других исследований, которые для познания способности, называемой нами рассудком, и вместе с тем для установления правил и границ ее применения были бы важнее, чем исследования, проведенные мной во второй главе «Трансцендентальной аналитики» под заглавием «Дедукция чистых рассудочных понятий». Зато они и стоили мне наибольшего труда, но я надеюсь, что этот труд не пропал даром. Это достаточно глубоко придуманное исследование имеет, однако, две стороны. Одна относится к предметам чистого рассудка и должна раскрыть и объяснить объективную значимость его априорных понятий; именно поэтому она и входит в мои планы. Другая сторона имеет в виду исследование самого чистого рассудка в том, что касается его возможности и познавательных способностей, на которых он сам основывается, иными словами, исследование рассудка с точки зрения субъекта, и, хотя выяснение этого имеет огромное значение для поставленной мной главной цели, оно, однако, не входит в нее по существу; в самом деле, основной вопрос состоит в том, что и насколько может быть познано рассудком и разумом независимо от всякого опыта, а не в том, как возможна сама способность мышления. Последнее есть как бы поиски причины к данному действию, и в этом смысле оно заключает в себе нечто подобное гипотезе (хотя на самом деле это не так, и я поясню это в другом месте). Вот почему может показаться, что в данном случае я позволяю себе высказать лишь свое предположение, но тогда и читателю должна быть предоставлена свобода иметь свое мнение. Ввиду этого я должен напомнить читателю, что в случае если моя субъективная дедукция не вызовет в нем полной убежденности, на которую я рассчитываю, то все же объективная дедукция, которой я придаю здесь наибольшее значение, сохраняет всю свою силу.
Наконец, что касается ясности, то читатель имеет право требовать прежде всего дискурсивной (логической) ясности[7 - См. соответствующее место в настоящем томе.]посредством понятий, а затем также интуитивной (эстетической) ясности[8 - Дискурсивная и интуитивная ясность. См. соответствующее место в настоящем томе. Согласно Канту, человек познает двояко: интуитивно, или непосредственно, при помощи созерцаний, или опосредствованно, с помощью понятий (рассудочное познание). В первом случае необходима наглядность, во втором случае наглядность отсутствует. Дискурсивная ясность достигается правильным применением понятий. «Дискурсивное» восходит к слову «discursus», которым средневековые логики обозначали действие рассудка, когда он, двигаясь от известного к неизвестному, строит (правильное) умозаключение. Дискурсивно, например, всякое понятие, поскольку оно образуется посредством связывания различных (известных) признаков. Поэтому дискурсивная ясность означает, по существу, логическую ясность, безошибочную последовательность понятий и связь их в процессе познания.]посредством созерцаний, т. е. примеров или других пояснений in concrete. О ясности посредством понятий я позаботился в достаточной степени; это касалось сути моей цели, но и было случайной причиной того, что я не мог в достаточной степени удовлетворить второму, правда не столь строгому, но все же законному требованию. На протяжении всей своей работы я почти все время колебался, как поступить в этом отношении. Примеры и пояснения казались мне всегда необходимыми, и поэтому в первом наброске они и в самом деле были приведены мной в соответствующих местах. Однако вскоре я убедился в громадности своей задачи и многочисленности предметов, с которыми мне придется иметь дело, и так как я увидел, что этот материал уже в сухом, чисто схоластическом изложении придаст значительный объем моему сочинению, то я счел нецелесообразным еще более расширить его примерами и пояснениями, которые необходимы только для популярности, между тем как мою работу нельзя было приспособить для широкого распространения, а настоящие знатоки науки не особенно нуждаются в такого рода облегчении. Такое облегчение, конечно, приятно, но здесь оно могло бы повлечь за собой нечто противоречащее поставленной мной цели. Правда, аббат Террасон[9 - Террасон (Terrasson Jean, 1670–1750) – французский ученый, профессор древнегреческой философии в Коллеж де Франс, член Французской академии. Кант ссылается на немецкий перевод (Philosophic nach ihrem Einflusse auf alle Gegenst?nde des Geistes und der Sitten. Halle, 1761. S. 17) его посмертно изданного труда «La philosophie applicable а tous les objets de l’esprit et de la raison». Paris, 1754 («Философия, применимая ко всем предметам духа и разума»).] говорит: если измерять объем книги не числом листов, а временем, необходимым для того, чтобы ее понять, то о многих книгах можно было бы сказать, что они были бы значительно короче, если бы они не были так коротки. Но, с другой стороны, если добиваются понятности пространного, но объединенного одним принципом целокупности спекулятивных знаний, то с таким же правом можно было бы сказать: некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными. В самом деле, средства, способствующие ясности, помогают пониманию отдельных частей, но нередко отдаляют понимание целого, мешая читателю быстро обозревать целое, и своими слишком яркими красками затемняют и скрадывают расчленение или структуру системы, между тем как именно от структуры системы главным образом и зависят суждения о ее единстве и основательности.
Мне представляется, что читателю должно казаться довольно заманчивым соединить свои усилия с усилиями автора, если он намерен целиком и неуклонно довести до конца великое и важное дело по предначертанному плану. Метафизика, выраженная в понятиях, которые мы здесь дадим, – единственная из всех наук, имеющая право рассчитывать за короткое время при незначительных, но объединенных усилиях достигнуть такого успеха, что потомству останется только все согласовать со своими целями на дидактический манер без малейшего расширения содержания. Ведь это есть не что иное, как систематизированный инвентарь всего, чем мы располагаем благодаря чистому разуму. Здесь ничто не может ускользнуть от нас, так как то, что разум всецело создает из самого себя, не может быть скрыто, а обнаруживается самим разумом, как только найден общий принцип того, что им создано. Полное единство такого рода знаний, а именно знаний исключительно из чистых понятий, делает эту безусловную полноту не только возможной, но и необходимой, при этом опыт или хотя бы частное созерцание, которое должно было бы вести к определенному опыту, не в состоянии повлиять на их расширение и умножение. Tecum habita et noris, quam sit tibi curta supellex (Persius)[10 - Пребывай с самим собой наедине, и тогда ты узнаешь, сколь ты беден духом(Ср. Сатиры Персия/Пер. Н. М. Благовещенского. СПб., 1873.)Кант приводит строку из четвертой сатиры Персия (Persius, Flaccus Aulus, 34–62 н. э.), римского поэта и сатирика, проповедовавшего этику Эпикура.].
Я надеюсь построить такую систему чистого (спекулятивного) разума под названием «метафизика природы». Эта система, будучи вдвое меньше по объему, должна тем не менее иметь гораздо более богатое содержание, чем предпринимаемая мной теперь критика, которой приходится в первую очередь показать источники и условия собственной возможности, и поэтому вынуждена расчистить и разровнять совершенно заросшую почву. В критике разума я жду от читателя терпения и беспристрастия судьи, а в изложении метафизики природы – доброжелательности и содействия помощника. В самом деле, как бы полно ни были изложены в критике все принципы системы, все же обстоятельность этой системы требует, чтобы в нее вошли все производные понятия, которые нельзя просто указать a priori, а должно найти постепенно; кроме того, поскольку критика разума исчерпала весь синтез понятий, то в метафизике природы в дополнение к этому требуется сделать то же в отношении анализа. Но эта задача легкая и представляет собой скорее развлечение, чем труд.
Я должен здесь прибавить еще несколько слов относительно издания этой книги. Так как она начала печататься с некоторым опозданием, то я мог просмотреть только около половины корректуры, и в ней я нашел несколько опечаток, правда не искажающих смысла, за исключением опечатки на стр. 379, строка 4, внизу, где следует читать специфический вместо скептический. Антиномии чистого разума напечатаны на страницах 425–461[11 - Соответствующее место в наст. томе см. с. 268–291.] в виде таблицы так, что все, что относится к тезису, помещено на левой, а все, что относится к антитезису, – на правой стороне. Я сделал это для того, чтобы легче было сравнивать их между собой.
Предисловие ко второму изданию
Разрабатываются ли знания, которыми оперирует разум, на верном пути науки или нет, можно легко установить по результатам. Если эта разработка после тщательной подготовки и оснащения оказывается в тупике, как только дело доходит до цели, или для достижения этой цели вынуждена не раз возвращаться назад и пролагать новые пути и если невозможно добиться единодушия различных исследователей в вопросе о том, как осуществить общую цель, – то после всего этого можно с уверенностью сказать, что подобное изучение ни в коей мере не вступило еще на верный путь науки, а действует лишь ощупью. Поэтому было бы заслугой перед разумом найти по возможности такой путь, если даже при этом пришлось бы отбросить как нечто бесполезное кое-что из того, что содержалось в необдуманно поставленной раньше цели.
Что логика уже с древнейших времен пошла этим верным путем, видно из того, что со времени Аристотеля ей не приходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение, относящиеся скорее к изящности, нежели к достоверности, науки. Примечательно в ней также и то, что она до сих пор не могла сделать ни шага вперед и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной. В самом деле, некоторые новейшие исследователи предполагали расширить логику тем, что включали в нее то психологические разделы о различных познавательных способностях (воображении, остроумии), то метафизические разделы о происхождении познания или о различных видах достоверности в зависимости от объекта (идеализм, скептицизм и т. д.), то антропологические разделы о предрассудках (о причинах их возникновения и средствах против них). Однако такие попытки объясняются незнанием истинной природы этой науки. Смешение границ различных наук ведет не к расширению этих наук, а к искажению их. Границы же логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только формальные правила всякого мышления (безразлично, априорное оно или эмпирическое, безразлично, каковы его происхождение и предмет и встречает ли оно случайные или естественные препятствия в нашей душе [Gem?t][12 - Gem?t не имеет однозначного определения в произведениях Канта. Диапазон этого понятия очень велик, и в самом немецком языке оно употребляется в самых различных значениях. Кант употребляет его как аналог латинского «animus» – понятие, объединяющее в себе умственные и чувственные способности, эмоциональное и волевое начала в человеке; «Gem?t» значительно беднее латинского понятия, однако выражает у Канта по крайней мере два начала – чувственное и умственное, которые могут подвергаться и внешнему, и внутреннему воздействию. Борн переводит это немецкое слово на латинский язык как «animus», английские переводчики Канта – как «mind» (в отличие от «soul» немецкое «Seele» – душа), французские переводчики – как «esprit». Итальянцы переводят «Gem?t» и «Seele» соответственно как «animo» и «anima», и это, пожалуй, наиболее точная передача понятий Канта. В известном смысле допустимо даже сопоставление этого термина с понятием соматического мышления. Это можно обнаружить, например, у К. Г. Юнга.В русском языке нет, к сожалению, слова, адекватного немецкому «Gem?t». «Дух» и «ум» имеют иное содержание, чем «animus», «animo», «mind», «esprit», ведь «Gem?t» означает «чувственная настроенность», «волевая настроенность» и «умственность» одновременно. Эти понятия в какой-то мере «собраны» в русском слове «душа», поэтому в настоящем издании (как и во всех предыдущих переводах) «Gem?t» (так же как и «Seele») переводится как «душа».Во всяком, даже самом точном, переводе всегда есть элемент «приблизительности», которая варьирует от одной степени к другой. Данное немецкое слово из тех типичных случаев, когда для окончательного решения сомнений можно обратиться только к одному судье – к подлиннику.]).
Своими успехами логика обязана определенности своих границ, благодаря которой она вправе и даже должна отвлечься от всех объектов познания и различий между ними; следовательно, в ней рассудок имеет дело только с самим собой и со своей формой. Конечно, значительно труднее было разуму прокладывать верный путь науки, коль скоро он имеет дело не только с самим собой, но и с объектами. Именно поэтому логика как пропедевтика[13 - Пропедевтика (от древнегреческого ?????????? – подготовлять, предварительно обучать). – Кант имеет в виду предварительное изучение философии: ее понятий и категорий, самой познавательной способности в противовес «системе» готовых понятий и схем. В пропедевтике главное – правильное понимание и применение основного круга понятий и категорий той или иной науки. Логика, например, может рассматриваться как пропедевтика для науки вообще. Свою «Критическую философию» Кант также считает лишь пропедевтикой.] составляет как бы только преддверие науки, и когда речь идет о знаниях, то логика, правда, предполагается для суждения о них, но для их приобретения следует обращаться собственно к наукам об объектах.
Поскольку в этих науках должен быть разум, то кое-что в них должно быть познано a priori, и поэтому познание разумом может относиться к своему предмету двояко, а именно: либо просто определять этот предмет и его понятие (которое должно быть дано другим путем), либо сделать его действительным. Первое означает теоретическое, а второе – практическое познание разумом. И в той и в другой сфере следует предварительно изложить, как бы ни был велик или мал объем, раздел чистого знания, т. е. тот раздел, в котором разум определяет свой предмет целиком a priori, и не смешивать с этим то, что получается из других источников. Плохо то хозяйство, в котором деньги расходуются безотчетно, так что впоследствии, когда хозяйство окажется в состоянии застоя, уже не будет возможности определить, какая часть доходов может покрыть расходы и какую часть расходов следует сократить.
Математика и физика – это две теоретические области познания разумом, которые должны определять свои объекты a priori, первая совершенно чисто, а вторая чисто по крайней мере отчасти, а далее – также по данным иных, чем разум, источников познания.
С самых ранних времен, до которых простирается история человеческого разума, математика пошла верным путем науки у достойных удивления древних греков. Однако не следует думать, что математика так же легко нашла или, вернее, создала себе этот царский путь, как логика, в которой разум имеет дело только с самим собой; наоборот, я полагаю, что она долго действовала ощупью (особенно у древних египтян), и перемена, равносильная революции, произошла в математике благодаря чьей-то счастливой догадке, после чего уже нельзя было не видеть необходимого направления, а верный путь науки был проложен и предначертан на все времена и в бесконечную даль. Для нас не сохранилась история этой революции в способе мышления, гораздо более важной, чем открытие пути вокруг знаменитого мыса, не сохранилось также имя счастливца, произведшего эту революцию. Однако легенда, переданная нам Диогеном Лаэртским, сообщающим имя мнимого изобретателя ничтожных, по общему мнению даже не требующих доказательства, элементов геометрических демонстраций, показывает, что воспоминание о переменах, вызванных первыми признаками открытия этого нового пути, казалось чрезвычайно важным в глазах математиков и потому оставило неизгладимый след в их сознании. Но свет открылся тому, кто впервые доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам a priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим сообразно его понятию.
Естествознание гораздо позднее попало на столбовую дорогу науки. Только полтора столетия тому назад предложение проницательного Бэкона Веруламского было отчасти причиной открытия [этого пути], а отчасти толчком, подвинувшим естествознание вперед, так как следы его уже были найдены; это также можно объяснить только быстро совершившейся революцией в способе мышления. Я буду иметь здесь в виду естествознание только постольку, поскольку оно основывается на эмпирических принципах.
Ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары с им самим избранной тяжестью, когда Торричелли заставил воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен весу известного ему столба воды, или когда Шталь[14 - Шталь (Stahl, Georg Ernst, 1660–1734) – известный немецкий химик-экспериментатор и врач. Кант, вероятно, имеет в виду опыты Шталя по окислению металлов и их восстановлению. Известью в то время называли продукт соединения кальция (Са) с кислородом (О) – окись кальция (СаО). Воздействуя на нее водородом (Н
), восстанавливали чистый кальций (СаО + Н
= Н
O + Са). Это Кант и называет получением чистого металла из извести.] в еще более позднее время превращал металлы в известь и известь обратно в металлы, что-то выделяя из них и вновь присоединяя к ним[2 - Я здесь не точно следую истории экспериментального метода, зарождение которого к тому же не очень-то известно.]. Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти впереди, согласно постоянным законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем. Разум должен подходить к природе, с одной стороны, со своими принципами, лишь сообразно с которыми согласующиеся между собой явления и могут иметь силу законов, и, с другой стороны, с экспериментами, придуманными сообразно этим принципам для того, чтобы черпать из природы знания, но не как школьник, которому учитель подсказывает все, что он хочет, а как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы. Поэтому даже физика обязана столь благоприятной для нее революцией в способе своего мышления исключительно лишь [счастливой] догадке – сообразно с тем, что сам разум вкладывает в природу, искать (а не придумывать) в ней то, чему он должен научиться у нее и чего он сам по себе не познал бы. Тем самым естествознание впервые вступило на верный путь науки после того, как оно в течение многих веков двигалось ощупью.
Метафизика, совершенно изолированное спекулятивное познание разумом, которая целиком возвышается над знанием из опыта, а именно познание посредством одних лишь понятий (но без применения их к созерцанию, как в математике), и в которой разум, следовательно, должен быть только своим собственным учеником, – до сих пор не пользовалась еще благосклонностью судьбы и не сумела еще вступить на верный путь науки, несмотря на то, что она древнее всех других наук и сохранилась бы, если даже все остальные [науки] были бы повержены всеистребляющим варварством. В метафизике разум постоянно оказывается в состоянии застоя, даже когда он пытается a priori усмотреть (как он считает себя вправе) законы, которые подтверждаются самым обыденным опытом. В метафизике приходится бесчисленное множество раз возвращаться назад, так как оказывается, что [избранный прежде] путь не ведет туда, куда мы хотели. Что касается единодушия во взглядах сторонников метафизики, то она еще настолько далека от него, что скорее напоминает арену, как будто приспособленную только для упражнений в борьбе, арену, на которой ни один боец еще никогда не завоевал себе места и не мог обеспечить себе своей победой прочное пристанище. Нет поэтому сомнения в том, что метафизика до сих пор действовала только ощупью и, что хуже всего, оперировала одними только понятиями.
В чем причина того, что здесь до сих пор не могли найти верный путь науки? Может быть, его невозможно найти? Но тогда почему же природа наделила наш разум неустанным стремлением искать такой путь как одно из важнейших дел разума? Более того, как мало у нас причин доверять разуму, если он не только покидает нас в важнейшей сфере нашей любознательности, но и заманивает нас ложными обещаниями, чтобы в конце концов обмануть нас! Или если до сих пор разум только ошибался, то какие показания дают нам при возобновлении исследования основание надеяться, что мы окажемся счастливее своих предшественников?
Я полагал бы, что пример математики и естествознания, которые благодаря быстро совершившейся в них революции стали тем, что они есть в настоящее время, достаточно замечателен, чтобы поразмыслить над сущностью той перемены в способе мышления, которая оказалась для них столь благоприятной, и чтобы по крайней мере попытаться подражать им, поскольку это позволяет сходство их с метафизикой как основанных на разуме знаний. До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразоваться с предметами. При этом, однако, кончались неудачей все попытки через понятия что-то априорно установить относительно предметов, что расширяло бы наше знание о них. Поэтому следовало бы попытаться выяснить, не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, – а это лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны. Здесь повторяется то же, что с первоначальной мыслью Коперника: когда оказалось, что гипотеза о вращении всех звезд вокруг наблюдателя недостаточно хорошо объясняет движения небесных тел, то он попытался установить, не достигнет ли он большего успеха, если предположить, что движется наблюдатель, а звезды находятся в состоянии покоя. Подобную же попытку можно предпринять в метафизике, когда речь идет о созерцании предметов. Если бы созерцания должны были согласоваться со свойствами предметов, то мне непонятно, каким образом можно было бы знать что-либо a priori об этих свойствах; наоборот, если предметы (как объекты чувств) согласуются с нашей способностью к созерцанию, то я вполне представляю себе возможность априорного знания. Но я не могу остановиться на этих созерцаниях, и для того, чтобы они сделались знанием, я должен их как представления отнести к чему-нибудь как к предмету, который я должен определить посредством этих созерцаний. Отсюда следует, что я могу допустить одно из двух: либо понятия, посредством которых я осуществляю это определение, также сообразуются с предметом и тогда я вновь впадаю в прежнее затруднение относительно того, каким образом я могу что-то узнать a priori о предмете; либо же допустить, что предметы, или, что то же самое, опыт, единственно в котором их (как данные предметы) и можно познать, сообразуются с этими понятиями. В этом последнем случае я тотчас же вижу путь более легкого решения вопроса, так как опыт сам есть вид познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori; эти правила должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало быть, все предметы опыта должны необходимо сообразоваться и согласоваться. Что же касается предметов, которые мыслятся только разумом, и притом необходимо, но которые (по крайней мере так, как их мыслит разум) вовсе не могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий того, что мы считаем измененным методом мышления, а именно что мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими[3 - Следовательно, этот метод, подражающий естествознанию, состоит в следующем: найти элементы чистого разума в том, что может быть подтверждено или опровергнуто экспериментом. Но для испытания положений чистого разума, особенно когда они смело выводят за пределы всякого возможного опыта, нельзя сделать ни одного эксперимента с его объектами (в отличие от естествознания). Следовательно, мы можем подвергать испытанию только a priori допущенные понятия и основоположения, построив их так, чтобы одни и те же предметы могли рассматриваться с двух различных сторон: с одной стороны, как предметы чувств и рассудка для опыта, с другой же стороны, как предметы, которые мы только мыслим и которые существуют лишь для изолированного и стремящегося за пределы опыта разума. Если окажется, что при рассмотрении вещей с этой двоякой точки зрения имеет место согласие с принципом чистого разума, а при рассмотрении с одной лишь точки зрения неизбежно возникает противоречие разума с самим собой, то эксперимент решает вопрос о правильности [установленного нами] различения.].
Эта попытка удается по нашему желанию и обещает метафизике верный путь науки в ее первой части, т. е. там, где метафизика занимается априорными понятиями, сообразно с которыми могут быть даны предметы в опыте. Действительно, после указанного изменения в способе мышления нетрудно объяснить возможность априорного познания и, что важнее, дать удовлетворительное доказательство законов, a priori лежащих в основе природы как совокупности предметов опыта, между тем как решение как той, так и другой задачи при прежнем методе было невозможно. Однако из этой дедукции нашей способности априорного познания в первой части метафизики получается странный и с виду весьма неблагоприятный для всей цели второй ее части результат, а именно с помощью способности априорного познания мы никогда не сможем выйти за пределы возможного опыта, между тем как именно это и составляет самую существенную задачу метафизики. Но как раз здесь подвергается испытанию истинность первой нашей оценки априорного познания разумом, согласно которой это знание относится только к явлениям, а вещь сама по себе остается не познанной нами, хотя она сама по себе и действительна. Ибо то, что необходимо побуждает нас выходить за пределы опыта и всех явлений, есть безусловное, которое разум необходимо и вполне справедливо ищет в вещах самих по себе в дополнение ко всему обусловленному, требуя таким образом законченного ряда условий. Если же при предположении, что приобретенное нашим опытом знание сообразуется с предметами как вещами самими по себе, оказывается, что безусловное вообще нельзя мыслить без противоречия, и, наоборот, при предположении, что не представления о вещах, как они нам даны, сообразуются с этими вещами как вещами самими по себе, а скорее эти предметы как явления сообразуются с тем, как мы их представляем, данное противоречие отпадает и, следовательно, безусловное должно находиться не в вещах, поскольку мы их знаем (поскольку они нам даны), а в вещах, поскольку мы их не знаем, [т. е. ] как в вещах самих по себе, – то отсюда становится ясным, что сделанное нами сначала в виде попытки допущение обоснованно[4 - Этот эксперимент чистого разума во многих отношениях походит на тот эксперимент химиков, который они иногда называют редукцией, а вообще же синтетическим методом. Произведенный метафизиком анализ разделил чистое априорное познание на два весьма разнородных элемента – познание вещей как явлений и познание вещей самих по себе. Диалектика, в свою очередь, приводит оба эти элемента к общему согласию с необходимой идеей разума – с идеей безусловного и считает, что это согласие получается не иначе как через упомянутое различение, которое, следовательно, есть истинное различение.]. И вот после того, как спекулятивному разуму отказано в каком бы то ни было продвижении вперед в этой области сверхчувственного, у нас все еще остается возможность попытаться установить, не может ли этот разум в своем практическом познании найти данные для определения трансцендентного, порожденного разумом понятия безусловного и сообразно с желанием метафизики выйти именно таким образом за пределы всякого возможного опыта посредством нашего априорного, но уже лишь практически возможного знания. При таком подходе спекулятивный разум все же предоставил нам по крайней мере место, хотя он и был вынужден оставить его пустым. Стало быть, у нас есть еще возможность, более того, нам вменено в обязанность заполнить, если можем, это место практическими данными разума[5 - Именно таким образом законы тяготения, определяющие движение небесных тел, придали характер полной достоверности той мысли, которую Коперник высказал первоначально лишь как гипотезу, и вместе с тем доказали существование невидимой, связующей все мироздание силы (ньютоновского тяготения), которая осталась бы навеки неоткрытой, если бы Коперник не отважился, идя против показаний чувств, но следуя при этом истине, отнести наблюдаемые движения не к небесным телам, а к их наблюдателю. В этом предисловии я выставляю предлагаемое в моей критике и аналогичное гипотезе Коперника изменение в способе мышления только как гипотезу, хотя в самом сочинении оно доказывается из свойств наших представлений о пространстве и времени и первоначальных понятий рассудка аподиктически, а не гипотетически. Я делаю это в предисловии, дабы обратить внимание уже на первые попытки такого изменения, которые всегда имеют гипотетический характер.].
Задача этой критики чистого спекулятивного разума состоит в попытке изменить прежний способ исследования в метафизике, а именно совершить в ней полную революцию, следуя примеру геометров и естествоиспытателей. Эта критика есть трактат о методе, а не система самой науки, но тем не менее в ней содержится полный очерк метафизики, касающийся вопроса и о ее границах, и о всем внутреннем ее строении. В самом деле, чистый спекулятивный разум имеет ту особенность, что он может и должен по-разному измерять свою способность сообразно тому, как он выбирает себе объекты для мышления, перечислять все способы, какими ставятся задачи, и таким образом давать полный набросок системы метафизики. Действительно, что касается первой задачи, то в априорном познании может быть приписано объектам только то, что мыслящий субъект берет из самого себя; что же касается второй задачи, то разум, когда он касается принципов познания, представляет собой совершенно обособленное и самостоятельное единство, в котором, как в организме, каждый член существует для всех остальных и все остальные – для каждого, так что ни один принцип не может быть взят с достоверностью в одном отношении, не будучи в то же время подвергнут исследованию во всяком отношении его ко всем областям применения чистого разума. Благодаря этому метафизика имеет редкое счастье, которое не выпадает на долю других основанных на разуме наук, имеющих дело с объектами (так как логика имеет дело только с формой мышления вообще). Это счастье состоит в том, что если метафизика вступит благодаря этой критике на верный путь науки, то она сможет овладеть всеми отраслями относящихся к ней знаний, стало быть, завершить свое дело и передать его потомству как капитал, не подлежащий дальнейшему увеличению, так как метафизика имеет дело только с принципами и с ограничиванием их применения, определяемым самой этой критикой. Поэтому она, как основная наука, должна обладать такой завершенностью, и о ней можно сказать: nil actum reputans, si quid superesset agendum.
Но нас, вероятно, спросят: что за сокровище мы намерены завещать потомству в виде метафизики, очищенной при помощи критики и приведенной таким образом в устойчивое состояние? При беглом обзоре этого сочинения может показаться, что оно имеет только негативную пользу, заключающуюся в том, что предостерегает нас против попыток выходить за пределы опыта при помощи спекулятивного разума. Прежде всего в этом польза нашего сочинения. Но эта польза становится положительной, как только убеждаются в том, что основоположения, посредством которых спекулятивный разум отваживается выйти за пределы опыта, на деле имеют своим неизбежным результатом (если присмотреться пристальнее) не расширение, а сужение применения нашего разума, так как эти основоположения, принадлежа, собственно говоря, к сфере чувственности, на самом деле угрожают безмерно расширить ее границы и таким образом вообще вытеснить чистое (практическое) применение разума. Поэтому критика, поскольку она ограничивает чувственность, правда негативна, но так как она тем самым снимает препятствие, которое ограничивает или даже грозит вообще упразднить практическое применение разума, то в действительности она приносит положительную, и весьма существенную, пользу, если только убеждаются в том, что существует безусловно необходимое практическое (нравственное) применение чистого разума, при котором разум неизбежно выходит за пределы чувственности, и, хотя для этого он не нуждается в помощи спекуляции, все же должен оградить себя от ее противодействия для того, чтобы не впасть в противоречие с самим собой. Отрицать эту положительную пользу критики – все равно что утверждать, будто полиция не приносит никакой положительной пользы, так как главная ее задача заключается в предупреждении насилия одних граждан над другими для того, чтобы каждый мог спокойно и безбоязненно заниматься своими делами. В аналитической части критики доказывается, что пространство и время суть только формы чувственного созерцания, т. е. только условия существования вещей как явлений; далее, что у нас есть рассудочные понятия и, следовательно, элементы для познания вещей лишь постольку, поскольку могут быть даны соответствующие этим понятиям созерцания, и, стало быть, мы можем познавать предмет не как вещь, существующую саму по себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, т. е. как явление. Отсюда необходимо следует ограничение всякого лишь возможного спекулятивного познания посредством разума одними только предметами опыта. Однако при этом – и это нужно отметить – у нас всегда остается возможность если и не познавать, то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи сами по себе[6 - Для познания предмета необходимо, чтобы я мог доказать его возможность (или по свидетельству опыта на основании действительности предмета, или a priori с помощью разума). Но мыслить я могу что угодно, если только я не противоречу самому себе, т. е. если только мое понятие есть возможная мысль, хотя бы я и не мог решить, соответствует ли ей объект в совокупности всех возможностей. Но для того чтобы приписать такому понятию объективную значимость (реальную возможность, так как первая возможность была только логической), требуется нечто большее. Однако это большее необязательно искать в теоретических источниках знания, оно может находиться также в практических источниках знания.]. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является. Теперь допустим, что сделанное нашей критикой необходимое различение вещей как предметов опыта и как вещей самих по себе вовсе не было сделано. В таком случае закон причинности и, стало быть, механизм природы должны были бы при определении причинности непременно распространяться на все вещи вообще как на действующие причины. Тогда нельзя было бы, не впадая в явное противоречие, сказать об одной и той же сущности, например о человеческой душе, что ее воля свободна, но в то же время подчинена естественной необходимости, т. е. не свободна. [Противоречие здесь возникло бы] потому, что в обоих утверждениях я беру человеческую душу в одном и том же значении, а именно как вещь (Ding) вообще (как вещь (Sache) саму по себе)[15 - Понятия «Ding» и «Sache» Кант употребляет в различном смысле. «Ding» означает у него вещь как таковую, а «Sache» – отдельную, данную вещь, res corporalis, неодушевленную вещь, неспособную совершить какое-либо действие, но являющуюся предметом деятельности человека. Однако иногда Кант употребляет слово «Sache» как «Ding», поэтому в тех случаях, когда он пишет «die Sache an sich», это понятие следует перевести как «вещь сама по себе».], и не мог брать ее иначе, не прибегнув предварительно к критике. Но если критика права, поскольку она учит нас рассматривать объект в двояком значении, а именно как явление или как вещь саму по себе; если данная критикой дедукция рассудочных понятий верна и, следовательно, закон причинности относится только к вещам в первом значении, т. е. поскольку они предметы опыта, между тем как вещи во втором значении не подчинены закону причинности, – то, не боясь впасть в противоречие, одну и ту же волю в [ее] проявлении (в наблюдаемых поступках) можно мыслить, с одной стороны, как необходимо сообразующуюся с законом природы и постольку не свободную, с другой же стороны, как принадлежащую вещи самой по себе, стало быть, не подчиненную закону природы и потому как свободную. Если свою душу, рассматриваемую как вещь саму по себе, я не могу познать посредством спекулятивного разума (и еще менее – посредством эмпирического наблюдения), следовательно, не могу также познать свободу как свойство сущности, которой я приписываю действия в чувственно воспринимаемом мире по той причине, что я должен был познавать такую сущность как определенную по ее существованию, но не во времени (что невозможно, так как я не могу заменить мое понятие созерцанием), – то я все же в состоянии мыслить свободу, а это означает, что представление о ней по крайней мере не содержит никакого противоречия, когда мы критически различаем два способа представления (чувственный и интеллектуальный), и имеет место проистекающее отсюда ограничение чистых рассудочных понятий, стало быть, и вытекающих из них основоположений. Допустим теперь, что мораль необходимо предполагает свободу (в самом строгом смысле этого слова) как свойство нашей воли, a priori указывая как на данные нашего разума на такие практические первоначальные, заложенные в нем принципы (Grundsatze), которые были бы совсем невозможны без предположения свободы; допустим также, что спекулятивный разум доказал, будто свободу вообще нельзя себе мыслить. В таком случае первая предпосылка, а именно моральная, необходимо должна уступить место тому, противоположность чего содержит явное противоречие. Следовательно, свобода, а вместе с ней и нравственность (так как противоположность ее не содержит никакого противоречия, если только не предполагается свобода) должны были бы уступить место механизму природы[16 - Механизм природы. – Кант имеет в виду необходимую связь природных явлений, неизбежное чередование событий в строгом соответствии с естественными законами причинности: одно событие вызывается другим, это – третьим и т. д.]. Но я не требую для морали ничего, кроме того, чтобы свобода не противоречила самой себе и, следовательно, чтобы можно было по крайней мере мыслить ее без необходимости дальнейшего ее усмотрения, иными словами, чтобы свобода никоим образом не препятствовала природному механизму одного и того же действия (взятого в ином отношении). Так, учение о нравственности и учение о природе остаются в своих рамках, чего не было бы, если бы критика нам заранее не разъяснила, что мы ни в коем случае не можем знать [каковы] вещи сами по себе, и не показала, что все, что мы можем теоретически познать, ограничивается лишь явлениями. Точно такое же разъяснение положительной пользы критических основоположений чистого разума можно сделать и в отношении понятия Бога и простой природы нашей души, но ради краткости я опускаю его. Я не могу, следовательно, даже допустить существование Бога, свободы и бессмертия для целей необходимого практического применения разума, если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний на трансцендентные знания, так как, добиваясь этих знаний, разум должен пользоваться такими основоположениями, которые, будучи в действительности приложимы только к предметам возможного опыта, все же применяются к тому, что не может быть предметом опыта, и в таком случае в самом деле превращают это в явления, таким образом объявляя невозможным всякое практическое расширение чистого разума. Поэтому мне пришлось ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере, а догматизм метафизики, т. е. предрассудок, будто в ней можно преуспеть без критики чистого разума, есть истинный источник всякого противоречащего моральности неверия, которое всегда в высшей степени догматично. – Итак, если нетрудно оставить потомству в завещание систему метафизики, созданную сообразно критике чистого разума, то такой подарок не следует считать малозначительным, пусть только обращают внимание на культуру разума, идя по верному пути науки вообще вместо бесцельного и легкомысленного блуждания разума ощупью, без критики, или стремятся к лучшему времяпрепровождению любознательной молодежи, которая во времена обычного догматизма так рано и в столь значительной степени поощряется к беспечному умствованию о вещах, в которых она ничего не смыслит и в которых она, как и все другие, никогда ничего не узреет, или к изобретению новых мыслей и мнений и таким образом отвращается от изучения основательных наук. Но особенно неоценима польза [критики], если принимают в расчет, что она раз и навсегда, и притом сократическим методом, т. е. совершенно ясно доказывая незнание своих противников, кладет конец всем возражениям, которые выдвигаются против нравственности и религии. Ведь какая-нибудь метафизика всегда была и будет существовать в мире, а вместе с ней должна существовать и диалектика чистого разума, ибо она соответствует природе метафизики. Поэтому первая и важнейшая задача философии – раз и навсегда устранить всякое вредное влияние ее, уничтожив источник заблуждений.
Несмотря на эти важные перемены в области наук и на потерю, которую должен понести спекулятивный разум в якобы принадлежащей ему до сих пор сфере, все общечеловеческие интересы и все выгоды, которые до сих пор извлекались из учений чистого разума, остаются прежними, и потеря затрагивает только монополию школ[17 - Школа в «Критике чистого разума» означает методическое обучение или наставление по твердо установленным правилам. Кант имеет здесь в виду «школьную», или схоластическую, философию, представители которой занимались тем, что пытались превосходить друг друга в остроумии и тонкости при применении и толковании слов и понятий. Согласно Канту, именно эта манера беспредметного философствования и служила основой догматизма и догматической метафизики. Школьная философия, о которой столь часто (и всегда с иронией) говорит Кант в своей «Критике чистого разума», – это главным образом схоластический (догматический) метод, основанный на фанатической вере во всемогущество чисто спекулятивного, без всякой связи с «возможным опытом» применения понятий и всего арсенала формальной логики. Кант систематически противопоставляет «школе» и «школьной философии» свою «критическую философию» и как метод, и как метафизику (в своем, кантовском понимании).], а никоим образом не интересы людей. Я позволю себе спросить самого непреклонного догматика, доходили ли когда-нибудь до широкой публики и могли ли иметь на их убеждения хоть какое-нибудь влияние такие рассуждения философов различных школ, как доказательство бессмертия нашей души со ссылкой на простоту субстанции, доказательство свободы воли в противовес всеобщему механизму при помощи утонченного, хотя и бесплодного, различения субъективной и объективной практической необходимости или доказательство бытия Бога из понятия всереальнейшей сущности (из случайности изменчивого и необходимости некоего перводвигателя)? Этого не было, да и никогда нельзя рассчитывать на это из-за неспособности обыденного человеческого рассудка к столь утонченной спекуляции. Более того, что касается первого вопроса, то присущее каждому человеку свойство его природы никогда не удовлетворяться своим временным бытием (как недостаточным для всего назначения человека) неизбежно пробуждает надежду на загробную жизнь; что касается второго вопроса, то простое и ясное изложение долга в противоположность всем притязаниям страстей приводит к сознанию свободы; наконец, что касается третьего вопроса, то достойный восхищения порядок, красота и предусмотрительность, проглядывающие во всем в природе, сами по себе должны породить веру в мудрого и великого Создателя мира. Одних этих [оснований] достаточно уже для распространения среди широкой публики этих убеждений, поскольку они опираются на доводы разума, а потому это достояние останется не только ненарушенным, но и приобретет большое значение, если школы теперь научатся не приписывать себе более высокое и широкое понимание вопросов, касающихся общечеловеческих интересов, чем то понимание, к которому так же легко может прийти громадное (по нашему мнению, наиболее достойное уважения) большинство людей, и если в силу этого школы ограничатся разработкой таких общедоступных и достаточных для целей морали доказательств. Перемена, следовательно, касается только дерзких притязаний школ, которые охотно хотели бы слыть здесь (на что они, впрочем, имеют основание во многих других случаях) единственными знатоками и хранителями таких истин, которые они сообщают публике только для применения, но ключ к которым хранят у себя (quod mecum nescit, solus vult scire videri). Все же мы отдаем должное более скромным притязаниям спекулятивного философа. Он всегда остается единственным хранителем полезной для общества науки, а именно критики разума, хотя общество и не знает о полезности для него этой науки, так как эта критика никогда не может стать популярной, да она и не нуждается в этом: ведь уразумению широкой публики недоступны изысканные аргументы в защиту полезных истин, так же как ей в голову не приходят столь же утонченные возражения против них. И наоборот, поскольку школа, как и всякий человек, возвышающийся до (философской) спекуляции, неизбежно соприкасается с такими аргументами и возражениями, то она обязана основательным исследованием прав спекулятивного разума раз и навсегда предотвратить скандал, который рано или поздно станет ясным даже широкой публике из тех споров, в которые без этой критики неминуемо впутываются метафизики (и в качестве таковых также и теологи), которые сами затем искажают свои учения. Только такой критикой можно подрезать корни материализма, фатализма, атеизма, неверия, свободомыслия, фанатизма и суеверия, которые могут приносить всеобщий вред, и, наконец, идеализма и скептицизма, которые больше опасны для школ и вряд ли могут распространяться среди широкой публики. Если правительства считают полезным вмешиваться в деятельность ученых, то их мудрой заботливости о науке и обществе более соответствовало бы способствовать свободе такой критики, единственно благодаря которой можно поставить на прочную основу деятельность разума, а не поддерживать смехотворный деспотизм школ, которые громко кричат о нарушении общественной безопасности, когда кто-то разрывает их хитросплетения, между тем как публика их никогда не замечала и потому не может ощущать их утрату.
Свою критику мы противопоставляем не догматическому методу разума в его чистом познании как науке (ибо наука всегда должна быть догматической, т. е. должна давать строгие доказательства из верных априорных принципов), а догматизму, т. е. притязаниям продвигаться вперед при помощи одного только чистого познания из понятий (философских) согласно принципам, давно уже применяемым разумом, не осведомляясь о правах разума на эти принципы и о способе, каким он дошел до них. Таким образом, догматизм есть догматический метод чистого разума без предварительной критики способности самого чистого разума. Следовательно, это противопоставление вовсе не благоприятствует болтливой поверхностности, присвоившей себе претенциозное имя популярности, а также скептицизму, который быстро расправляется со всей метафизикой. Скорее наоборот, критика есть необходимое предварительное условие для содействия основательной метафизике как науке, которая необходимо должна быть построена догматически и в высшей степени систематически, следовательно, по-ученому (не популярно), так как это требование непременно должно быть предъявлено к ней ввиду того, что она притязает на выполнение своей задачи совершенно a priori, стало быть, к полному удовольствию спекулятивного разума. Следовательно, при выполнении плана, предписываемого критикой, т. е. при построении будущей системы метафизики, мы должны следовать строгому методу знаменитого Вольфа, величайшего из всех догматических философов, который впервые дал пример (и благодаря этому примеру стал источником до сих пор еще не угасшего в Германии духа основательности) того, как именно следует вступать на верный путь науки с помощью законосообразного установления принципов, отчетливого определения понятий, испытанной строгости доказательств и предотвращения смелых скачков в выводах. Благодаря этому Вольф был бы вполне способен возвести на степень науки также и метафизику, если бы ему пришло в голову сначала подготовить себе почву посредством критики самого орудия [познания], а именно чистого разума. Впрочем, это упущение следует приписать не столько ему, сколько догматическому образу мышления его времени, и в этом отношении современным ему философам, как и философам более ранних эпох, нечего упрекать друг друга. Те, кто отвергает метод обучения Вольфа и вместе с тем метод критики чистого разума, могут стремиться только к тому, чтобы вообще сбросить оковы науки и превратить труд в игру, достоверность – в мнение, а философию – в филодоксию.
Что касается этого второго издания, то я, как и полагается, воспользовался случаем, чтобы по возможности устранить трудности и неясности, способные привести к различным недоразумениям, на которые натолкнулись, быть может не без моей вины, проницательные люди при оценке моей книги. В самих положениях и доказательствах, а также в форме и обстоятельности плана [сочинения] я не нашел ничего подлежащего изменению. Это объясняется отчасти продолжительным испытанием, которому я подвергал свое сочинение до его опубликования, отчасти же особенностью самого предмета, а именно природой чистого спекулятивного разума, в истинной структуре которого все есть орган, т. е. целое служит каждой части и каждая часть – целому, так что малейший недостаток, будь то ошибка (заблуждение) или упущение, неизбежно обнаружится при применении [системы в целом]. Я надеюсь, что система навсегда сохранит эту неизменность. Такая уверенность вызвана не самомнением, а единственно очевидностью, вытекающей из тождества результата восхождения от простейшего элемента к чистому разуму как целому с нисхождением от целого (ибо и целое само по себе дано благодаря конечной цели чистого разума в практической сфере) ко всякой части, между тем как попытки изменить самую малую часть тотчас же ведут к противоречиям не только в системе, но и в общечеловеческом разуме. Однако в изложении можно еще многое улучшить, и я попытался в настоящем издании сделать такие улучшения, которые должны устранить, во-первых, неверное понимание эстетики[18 - Эстетика (от древнегреческого ???????? – чувствование, ощущение) дословно означает учение о чувствах или о чувствовании. Термин впервые введен немецким ученым А. Баумгартеном (см. примеч. 25 к с. 64) в его двухтомном труде «Aesthetica», 1750–1758. Согласно Баумгартену, цель эстетики – достижение совершенства чувственного познания как такового, но совершенство чувства есть красота. Эстетика поэтому обретает свой предмет – искусство и становится философией искусства. Эстетика в «Критике чистого разума» имеет совершенно иное содержание: она означает науку о чувственной стадии познания.О понимании Кантом эстетики (в традиционном смысле) см. вступительную статью В. Ф. Асмуса к т. 5 Сочинений Канта.], особенно в понятии времени; во-вторых, неясности в дедукции рассудочных понятий; в-третьих, мнимое отсутствие очевидности в доказательствах основоположений чистого рассудка и, наконец, в-четвертых, неправильное истолкование паралогизмов, в которых я упрекаю рациональную психологию. Изменения, произведенные мной в способе изложения, простираются только до этого места (а именно только до конца первой главы трансцендентальной диалектики), но не далее[7 - Действительным прибавлением, однако лишь в аргументации, я бы мог назвать только новое опровержение психологического идеализма и строгое (как я полагаю, единственно возможное) доказательство объективной реальности внешних созерцаний. Как бы ни считали идеализм опасным для основных целей метафизики (хотя в действительности это не так), нельзя не признать скандалом для философии и общечеловеческого разума необходимость принимать лишь на веру существование вещей вне нас (от которых мы ведь получаем весь материал знания даже для нашего внутреннего чувства) и невозможность противопоставить какое бы то ни было удовлетворительное доказательство этого существования, если бы кто-нибудь вздумал подвергнуть его сомнению. Так как в изложении доказательства от третьей до шестой строки есть некоторая неясность, то я прошу изменить это место следующим образом: «Но это постоянное (Beharrliches) не может быть созерцанием во мне. В самом деле, все определяющие основания моего существования, которые можно найти во мне, суть представления и, как таковые, они сами нуждаются в отличающемся от них постоянном, по отношению к которому могла бы быть определена смена их, а следовательно, и мое существование во времени, в течение которого они сменяются». Против этого доказательства, вероятно, возразят следующее: я ведь сознаю непосредственно только то, что находится во мне, т. е. мое представление о внешних вещах. Следовательно, остается все же нерешенным [вопрос], соответствует ли что-нибудь (этому представлению) вне меня или нет. Однако я сознаю свое существование во времени (следовательно, и определимость этого существования во времени) посредством внутреннего опыта, а это есть нечто большее, чем только осознание моего представления; это то же, что и эмпирическое сознание моего существования, определимого только через отношение к чему-то, что связано с моим существованием и находится вне меня. Таким образом, это сознание моего существования во времени точно так же связано с сознанием отношения к чему-то находящемуся вне меня; следовательно, опыт, а не выдумка, чувство, а не воображение неразрывно связывает внешние вещи с моим внутренним чувством; в самом деле, внешнее чувство уже само по себе есть отношение созерцания к чему-то действительному вне меня и реальность внешнего чувства в отличие от воображения основывается лишь на том, что оно неразрывно связывается с самим внутренним опытом как условие его возможности, что и имеет место здесь. Если бы с интеллектуальным сознанием моего существования, выступающим в представлении я существую, которое сопровождает все мои суждения и действия рассудка, я мог также связать определение моего существования с помощью интеллектуального созерцания, то внутренний опыт не нуждался бы в сознании отношения к чему-то находящемуся вне меня. Между тем, хотя это интеллектуальное сознание и предшествует, все же внутреннее созерцание, в котором единственно может быть определено мое существование, имеет чувственный характер и связано с временным условием. Однако это определение, а стало быть, и сам внутренний опыт, зависит от чего-то постоянного, находящегося не во мне, а следовательно, находящегося в чем-то вне меня, и я должен мыслить себя в некотором отношении к нему. Таким образом, реальность внешнего чувства необходимо связана с реальностью внутреннего чувства как условие возможности опыта вообще. Отсюда следует, что существование вещей вне меня, находящихся в отношении с моим чувством, я сознаю с такой же уверенностью, с какой я сознаю свое собственное существование, определенное во времени. Однако вопрос о том, каким данным созерцаниям действительно соответствуют объекты вне меня, относящиеся поэтому к внешнему чувству – именно ему, а не воображению должны быть приписаны эти объекты, – этот вопрос должен решаться в каждом отдельном случае особо, по правилам, согласно которым опыт вообще (даже и внутренний) отличается от воображения; в основе этого всегда лежит положение, что внешний опыт действительно существует. К сказанному можно прибавить еще и следующее примечание: представление о чем-то постоянном в существовании нельзя смешивать с постоянным представлением. Представления о постоянном, как и все наши представления, и даже представления о материи, могут быть весьма непостоянными и изменчивыми и тем не менее соотнесенными с чем-то постоянным, что должно поэтому чем-то отличаться от всех моих представлений и быть внешней вещью, существование которой необходимо включено в определение моего собственного существования и составляет с ним один опыт, который даже не мог бы быть внутренним, если бы он в то же время не был (отчасти) внешним. Как это возможно – это так же нельзя здесь подробно объяснить, как и то, каким образом мы вообще мыслим устойчивое во времени, одновременное существование которого с изменчивым порождает понятие об изменении.], так как времени было слишком мало и к тому же остальное, как мне кажется, правильно понято сведущими и беспристрастными судьями. Что касается таких судей, то они сами заметят в соответствующих местах, что я принял во внимание их указания, хотя я и не называю их имен с подобающей им похвалой. С этими улучшениями, однако, связана для читателя кое-какая потеря, которой нельзя было избежать, не увеличивая чересчур объема книги. Дело в том, что мне пришлось опустить или сократить многое такое, что несущественно для полноты целого, хотя и могло бы быть желательным для некоторых читателей, поскольку может пригодиться для других целей. Пришлось это сделать для того, чтобы дать место более ясному теперь, как я надеюсь, изложению, которое, что касается положений и даже доказательств их, по существу не изменилось, но по методу кое-где так отличается от прежнего, что не могло быть достигнуто одними лишь вставками. Эта небольшая потеря, которую к тому же при желании можно возместить, если сравнить с первым изданием, с избытком возмещается, как я надеюсь, большей понятностью. Из различных опубликованных сочинений (отчасти из рецензий на некоторые книги, отчасти из отдельных трактатов) я с удовольствием и чувством благодарности усмотрел, что дух основательности в Германии не угас, что он только на короткое время был заглушен модной манерой гениальничающего свободомыслия и что тернистые тропы критики, ведущие к систематической, но благодаря этому единственно прочной и потому в высшей степени необходимой науке чистого разума, не помешали отважным и светлым умам овладеть этой наукой. Этим достойным людям, столь счастливо сочетающим основательное понимание с даром ясного изложения (которого я в себе не нахожу), я предоставляю завершить работу над кое-где неудовлетворительной формой моего изложения. Быть опровергнутым – этого в данном случае опасаться нечего; опасаться следует другого – быть непонятым. В споры я отныне пускаться не буду, но все указания друзей и противников я старательно буду принимать во внимание, чтобы использовать их при будущем построении системы согласно этой пропедевтике. Так как за время этих работ я уже успел состариться (в этом месяце мне исполняется шестьдесят три года), то я должен бережливо относиться ко времени, если я хочу выполнить свой план – построить метафизику природы и метафизику нравов в подтверждение правильности критики как спекулятивного, так и практического разума. Разъяснения же неясных мест, вначале неизбежных в этом произведении, а также защиты всего [моего учения] в целом я жду от почтенных лиц, усвоивших его. В отдельных пунктах всякое философское сочинение дает основание для мелких нападок (философское сочинение не может выступать в такой броне, как математическое), но строение системы в целом, рассматриваемое как единство, может при этом не подвергаться никакой опасности. Однако для обзора такого целого, если оно ново, только немногие люди обладают гибкостью ума и еще меньше людей имеет к этому охоту, так как всякое новшество им неприятно. Во всяком сочинении, в особенности если изложение ведется в форме свободной речи, можно выкопать, выхватывая отдельные места и сравнивая их друг с другом, также и мнимые противоречия, которые бросают тень на все сочинение в глазах людей, полагающихся на суждение других, между тем как эти противоречия может легко устранить человек, усвоивший идею в целом. Но если теория обладает внутренней прочностью, то действия и противодействия, угрожающие ей вначале большой опасностью, служат с течением времени лишь к тому, чтобы отшлифовать ее неровности и даже сообщить ей в короткое время необходимое изящество, если ею займутся люди беспристрастные, умные и способные действительно просто излагать свои мысли.
Кенигсберг, апрель 1787 г.
Введение
I. О различии между чистым и эмпирическим познанием
Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта; в самом деле, чем же пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Следовательно, никакое познание не предшествует во времени опыту, оно всегда начинается с опыта.
Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его.
Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более тщательного исследования и не может быть решен сразу: существует ли такое независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений познание? Такие знания называются априорными; их отличают от эмпирических знаний, которые имеют апостериорный[19 - Априорные и апостериорные знания (от латинских a priori – изначально и a posteriori – из последующего). – Кантовское понимание априорных знаний отличается от взгляда на априорное знание, которого придерживались предшественники Канта. До критической философии априорным считали не только независимое от опыта знание, но и знание, обусловленное опытом опосредствованно. Кант же такого рода опосредствованное опытное знание относит к апостериорным знаниям. По его мнению, апостериорное знание бывает двух родов: непосредственное и опосредствованное. Непосредственное – это знание, которое мы добываем непосредственным восприятием (видим и слышим). Например, видя горящий дом, мы непосредственно заключаем: дом горит. Но этим наше апостериорное знание о данном явлении не исчерпывается. Видя горящий дом, мы можем безошибочно заключить, что, после того как дом сгорит, останется пепел. Это заключение также опирается на опыт. Но в отличие от первого оно складывается опосредствованно.] источник, а именно в опыте.
Однако термин a priori еще недостаточно определен, чтобы надлежащим образом обозначить весь смысл поставленного вопроса. В самом деле, обычно относительно некоторых знаний, выведенных из эмпирических источников, говорят, что мы способны или причастны к ним a priori потому, что мы выводим их не непосредственно из опыта, а из общего правила, которое, однако, само заимствовано нами из опыта. Так, о человеке, который подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог a priori знать, что дом обвалится, иными словами, ему незачем было ждать опыта, т. е. когда дом действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно a priori он все же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, когда лишены опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта.
Поэтому в дальнейшем исследовании мы будем называть априорными знания, безусловно независимые от всякого опыта, а не независимые от того или иного опыта. Им противоположны эмпирические знания, или знания, возможные только a posteriori, т. е. посредством опыта. В свою очередь, из априорных знаний чистыми называются те знания, к которым совершенно не примешивается ничто эмпирическое. Так, например, положение всякое изменение имеет свою причину есть положение априорное, но не чистое, так как понятие изменения может быть получено только из опыта.
II. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них
Речь идет о признаке, по которому мы можем с уверенностью отличить чистое знание от эмпирического. Хотя мы из опыта и узнаем, что объект обладает теми или иными свойствами, но мы не узнаем при этом, что он не может быть иным. Поэтому, во-первых, если имеется положение, которое мыслится вместе с его необходимостью, то это априорное суждение; если к тому же это положение выведено исключительно из таких, которые сами, в свою очередь, необходимы, то оно безусловно априорное положение. Во-вторых, опыт никогда не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность (посредством индукции), так что это должно, собственно, означать следующее: насколько нам до сих пор известно, исключений из того или иного правила не встречается. Следовательно, если какое-нибудь суждение мыслится как строго всеобщее, т. е. так, что не допускается возможность исключения, то оно не выведено из опыта, а есть безусловно априорное суждение. Стало быть, эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев, как, например, в положении все тела имеют тяжесть. Наоборот, там, где строгая всеобщность принадлежит суждению по существу, она указывает на особый познавательный источник суждения, а именно на способность к априорному знанию. Итак, необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного знания и неразрывно связаны друг с другом. Однако, пользуясь этими признаками, подчас бывает легче обнаружить случайность суждения, чем эмпирическую ограниченность его, а иногда, наоборот, более ясной бывает неограниченная всеобщность, приписываемая нами суждению, чем необходимость его; поэтому полезно применять отдельно друг от друга эти критерии, из которых каждый безошибочен сам по себе.
Нетрудно доказать, что человеческое знание действительно содержит такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые априорные суждения. Если угодно найти пример из области наук, то стоит лишь указать на все положения математики; если угодно найти пример из применения самого обыденного рассудка, то этим может служить утверждение, что всякое изменение должно иметь причину; в последнем суждении само понятие причины с такой очевидностью содержит понятие необходимости связи с действием и строгой всеобщности правила, что оно совершенно сводилось бы на нет, если бы мы вздумали, как это делает Юм[20 - Как это делает Юм. – Указанную Кантом концепцию Давид Юм развивает в двух своих основных сочинениях: «Treatise of Human Nature» («Трактат о человеческой природе», книга первая – «О познании», часть III, главы I–IV) и «An Enquiry Concerning Human Understanding» («Исследование о человеческом рассудке»).Отношение Канта к философии Д. Юма обсуждается в философской литературе еще с XVIII в. Большинство историков философии и комментаторов Канта, считая, что скептицизм Юма оказал большое влияние на формирование критической философии, признают самостоятельность разработки и решения ее проблем Кантом. Однако ряд комментаторов не согласен с такой точкой зрения. Так, упомянутый нами переводчик и комментатор «Критики чистого разума» Н. К. Смит полагает, что некоторые важные положения философии Канта (например, о возможности априорных синтетических суждений) разработаны уже Юмом и что Кант ничего нового здесь по существу не сказал. То обстоятельство, что Кант считал себя первым в разработке этих положений, Смит объясняет тем, что он плохо знал труды Юма и что общее представление его о юмовской концепции сложилось под влиянием книги английского философа Джеймса Битти «Очерк о природе и неизменности истины» (Beattie J. An Essay on the Nature and Immutability of Truth. London, 1770). В этой книге, по мнению Н. К. Смита, дана невежественная и недоброжелательная критика философии Давида Юма. Этим Смит пытается объяснить искаженное и подчас неверное, по его убеждению, изложение философии Юма в «Критике чистого разума» (N. ?. Smith. A Commentary to Kant’s «Critique of Pure Reason». New York, 1962. P. XXVIII, 61–63). Смит здесь не прав. И в критике, и в похвалах Кант всегда излагает Юма в основном правильно, правда иногда подчеркивая в его учении то, что содержалось в нем лишь в скрытом виде, – обстоятельство, которое почему-то упускает из виду Н. К. Смит. К тому же сам он указывает, что первый перевод двух основных трудов Юма на немецкий язык был сделан Зульцером уже в 1754–1756 гг. Поэтому вряд ли есть основания думать, что Кант знакомился с философией Юма не по первоисточникам.], выводить его из частого присоединения того, что происходит, к тому, что ему предшествует, и из возникающей отсюда привычки (следовательно, чисто субъективной необходимости) связывать представления. Даже и не приводя подобных примеров в доказательство действительности чистых априорных основоположений в нашем познании, можно доказать необходимость их для возможности самого опыта, т. е. доказать a priori. В самом деле, откуда же сам опыт мог бы заимствовать свою достоверность, если бы все правила, которым он следует, в свою очередь, также были эмпирическими, стало быть, случайными, вследствие чего их вряд ли можно было бы считать первыми основоположениями. Впрочем, здесь мы можем довольствоваться тем, что указали как на факт на чистое применение нашей познавательной способности вместе с ее признаками. Однако не только в суждениях, но даже и в понятиях обнаруживается априорное происхождение некоторых из них. Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы не можете отбросить. Точно так же если вы отбросите от вашего эмпирического понятия какого угодно телесного или нетелесного объекта все свойства, известные вам из опыта, то все же вы не можете отнять у него то свойство, благодаря которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто присоединенное к субстанции (хотя это понятие обладает большей определенностью, чем понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под давлением необходимости, с которой вам навязывается это понятие, признать, что оно a priori пребывает в нашей познавательной способности[21 - В первом издании «Критики чистого разума» вместо первых двух параграфов было написано следующее:«Опыт, несомненно, есть первый продукт, производимый нашим рассудком, когда он обрабатывает грубый материал чувственных ощущений. Тем самым опыт есть первое наставление, и в своем развитии он столь неисчерпаемо богат новыми уроками, что непрерывный ряд всех будущих поколений никогда не будет иметь недостатка в новых знаниях, которые могут быть добыты на почве опыта. Однако опыт отнюдь не единственное поприще, которым ограничивается наш рассудок. Опыт показывает нам, что существует, но он не говорит нам, что оно необходимо должно существовать так, а не иначе. Именно поэтому он не дает нам истинной всеобщности, и разум, жадно стремящийся к такого рода знанию, скорее возбуждается, чем удовлетворяется, опытом. Такие общие знания, которые имеют также характер внутренней необходимости, должны быть независимыми от опыта, сами по себе ясными и достоверными. Поэтому их называют априорными знаниями, между тем как то, что заимствовано исключительно из опыта, познается, как принято говорить, только a posteriori, или эмпирически.Оказывается, однако, – и это в высшей степени примечательно, – что даже с нашим опытом смешиваются знания, которые должны иметь априорное происхождение и, быть может, служат лишь для того, чтобы вносить связь в наши представления чувств. В самом деле, если даже удалить из этих представлений все, что принадлежит чувствам, то в них все же останутся некоторые первоначальные понятия и образуемые из них суждения, которые должны возникнуть совершенно a priori, независимо от опыта, так как благодаря им мы можем или, во всяком случае, мы думаем, что можем, сказать о предметах, являющихся нашим чувствам, больше того, чему мог бы научить один только опыт, и благодаря им наши утверждения содержат истинную всеобщность и строгую необходимость, чего одно только эмпирическое знание дать не может».].
III. Для философии необходима наука, определяющая возможность, принципы и объем всех априорных знаний
Еще больше, чем все предыдущее, говорит нам то обстоятельство, что некоторые знания покидают даже сферу всякого возможного опыта и с помощью понятий, для которых в опыте нигде не может быть дан соответствующий предмет, расширяют, как нам кажется, объем наших суждений за рамки всякого опыта.
Именно к области этого рода знаний, которые выходят за пределы чувственно воспринимаемого мира, где опыт не может служить ни руководством, ни средством проверки, относятся исследования нашего разума, которые мы считаем по их важности гораздо более предпочтительными и по их конечной цели гораздо более возвышенными, чем все, чему рассудок может научиться в области явлений. Мы при этом скорее готовы пойти на что угодно, даже с риском заблудиться, чем отказаться от таких важных исследований из-за какого-то сомнения или пренебрежения и равнодушия к ним. Эти неизбежные проблемы самого чистого разума суть бог, свобода и бессмертие. А наука, конечная цель которой – с помощью всех своих средств добиться лишь решения этих проблем, называется метафизикой; ее метод вначале догматичен, т. е. она уверенно берется за решение [этой проблемы] без предварительной проверки способности или неспособности разума к такому великому начинанию.
Как только мы покидаем почву опыта, кажется естественным не строить тотчас же здание с такими знаниями и на доверии к таким основоположениям, происхождение которых неизвестно, а заложить сначала прочный фундамент для него старательным исследованием, а именно предварительной постановкой вопроса о том, каким образом рассудок может прийти ко всем этим априорным знаниям и какой объем, силу и значение они могут иметь. И в самом деле, нет ничего более естественного, чем подразумевать под словом естественно все то, что должно происходить правильно и разумно; если же под этим понимают то, что обыкновенно происходит, то опять-таки нет ничего естественнее и понятнее, чем то, что подобное исследование долго не появлялось. В самом деле, некоторые из этих знаний, например математические, с древних времен обладают достоверностью и этим открывают возможность для развития других [знаний], хотя бы они и имели совершенно иную природу. К тому же, находясь за пределами опыта, можно быть уверенным в том, что не будешь опровергнут опытом. Побуждение к расширению знаний столь велико, что помехи в достижении успехов могут возникнуть только в том случае, когда мы наталкиваемся на явные противоречия. Но этих противоречий можно избежать, если только строить свои вымыслы осторожно, хотя от этого они не перестают быть вымыслами. Математика дает нам блестящий пример того, как далеко мы можем продвинуться в априорном знании независимо от опыта. Правда, она занимается предметами и познаниями лишь настолько, насколько они могут быть показаны в созерцании. Однако это обстоятельство легко упустить из виду, так как указанное созерцание само может быть дано a priori, и потому его трудно отличить от чистых понятий. Страсть к расширению [знания], увлеченная таким доказательством могущества разума, не признает никаких границ. Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его противодействие, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать. Точно так же Платон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот мир ставит узкие рамки рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого сопротивления, которое служило бы как бы опорой для приложения его сил, дабы сдвинуть рассудок с места. Но такова уж обычно судьба человеческого разума, когда он пускается в спекуляцию: он торопится поскорее завершить свое здание и только потом начинает исследовать, хорошо ли было заложено основание для этого. Тогда он ищет всякого рода оправдания, чтобы успокоить нас относительно его пригодности или даже совсем отмахнуться от такой запоздалой и опасной проверки. Во время же самой постройки здания от забот и подозрений нас освобождает следующее обстоятельство, подкупающее нас мнимой основательностью. Значительная, а может быть наибольшая, часть деятельности нашего разума состоит в расчленении понятий, которые у нас уже имеются о предметах. Благодаря этому мы получаем множество знаний, которые, правда, суть не что иное, как разъяснение или истолкование того, что уже мыслилось (хотя и в смутном еще виде) в наших понятиях, но по крайней мере по форме ценятся наравне с новыми воззрениями, хотя по содержанию только объясняют, а не расширяют уже имеющиеся у нас понятия. Так как этим путем действительно получается априорное знание, развивающееся надежно и плодотворно, то разум незаметно для себя подсовывает под видом такого знания утверждения совершенно иного рода, в которых он a priori присоединяет к данным понятиям совершенно чуждые им [понятия], при этом не знают, как он дошел до них, и даже не ставят такого вопроса. Поэтому я займусь теперь прежде всего исследованием различия между этими двумя видами знания.
IV. О различии между аналитическими и синтетическими суждениями
Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, так как вслед за ними применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде) в этом понятии А, или же В целиком находится вне понятия А, хотя и связано с ним. В первом случае я называю суждение аналитическим, а во втором – синтетическим. Следовательно, аналитические – это те (утвердительные) суждения, в которых связь предиката с субъектом мыслится через тождество, а те суждения, в которых эта связь мыслится без тождества, должны называться синтетическими. Первые можно было бы назвать поясняющими, а вторые – расширяющими суждениями, так как первые через свой предикат ничего не добавляют к понятию субъекта, а только делят его путем расчленения на подчиненные ему понятия, которые уже мыслились в нем (хотя и смутно), между тем как синтетические суждения присоединяют к понятию субъекта предикат, который вовсе не мыслился в нем и не мог бы быть извлечен из него никаким расчленением. Например, если я говорю все тела протяженны, то это суждение аналитическое. В самом деле, мне незачем выходить за пределы понятия, которое я сочетаю со словом тело, чтобы признать, что протяжение связано с ним, мне нужно только расчленить это понятие, т. е. осознать всегда мыслимое в нем многообразное, чтобы найти в нем этот предикат. Следовательно, это аналитическое суждение. Если же я говорю все тела имеют тяжесть, то этот предикат есть нечто иное, чем то, что я мыслю в простом понятии тела вообще. Следовательно, присоединение такого предиката дает синтетическое суждение.
Все эмпирические суждения как таковые синтетические. В самом деле, было бы нелепо основывать аналитические суждения на опыте, так как, составляя эти суждения, я вовсе не должен выходить за пределы своего понятия и, следовательно, не нуждаюсь в свидетельстве опыта. Суждение, что тела протяженны, устанавливается a priori и не есть эмпирическое суждение. В самом деле, раньше чем обратиться к опыту, я имею все условия для своего суждения уже в этом понятии, из которого мне остается лишь извлечь предикат по закону противоречия, и благодаря этому я в то же время могу сознавать необходимость этого суждения, которая не могла бы быть даже указана опытом. Напротив, хотя в понятие тела вообще я вовсе не включаю предикат тяжести, однако этим понятием обозначается некоторый предмет опыта через какую-то часть опыта, к которой я могу, следовательно, присоединить другие части того же самого опыта сверх тех, которые имеются в первом понятии. Я могу сначала познать аналитически понятие тела через признаки протяженности, непроницаемости, формы и пр., которые мыслятся в этом понятии. Но вслед за этим я расширяю свое знание и, обращаясь к опыту, из которого я вывел это понятие тела, нахожу, что с вышеуказанными признаками всегда связана также тяжесть, и таким образом присоединяю синтетически этот признак к понятию тела как [его] предикат. Следовательно, возможность синтеза предиката тяжести с понятием тела основывается именно на опыте, так как оба этих понятия, хотя одно из них и не содержится в другом, тем не менее принадлежат друг к другу, пусть лишь случайно, как части одного целого, а именно опыта, который сам есть синтетическое связывание созерцаний.
Но априорные синтетические суждения совершенно лишены этого вспомогательного средства. Если я должен выйти за пределы понятия А, чтобы познать как связанное с ним другое понятие – В, то на что я могу опереться и что делает возможным синтез, если в этом случае я лишен возможности искать его в сфере опыта? Возьмем суждение все, что происходит, имеет свою причину. В понятии того, что происходит, я мыслю, правда, существование, которому предшествует время и т. д., и отсюда можно вывести аналитические суждения. Однако понятие причины целиком находится вне этого понятия и указывает на нечто отличное от того, что происходит, и, значит, вовсе не содержится в этом последнем представлении. На каком основании я приписываю тому, что вообще происходит, нечто совершенно отличное от него и познаю понятие причины, хотя и не заключающееся в первом понятии, тем не менее принадлежащее к нему и даже необходимо? Что служит здесь тем неизвестным х, на которое опирается рассудок, когда он полагает, что нашел вне понятия А чуждый ему, но тем не менее связанный с ним предикат В? Этим неизвестным не может быть опыт, потому что в приведенном основоположении второе представление присоединяется к первому не только с большей всеобщностью, чем это может дать опыт, но и выражая необходимость, стало быть, совершенно a priori и из одних только понятий. Конечная цель всего нашего спекулятивного[22 - Спекуляция (от латинского speculor – наблюдаю, созерцаю), согласно Канту, есть догматический способ познания, при котором оперируют понятиями или суждениями, а также предметами, которые не могут быть даны ни в каком возможном опыте. Обычно спекулятивное познание противопоставляется познанию «физическому», или познанию «природных вещей», имеющему дело лишь с тем, что дано в возможном опыте.Кант обвинил догматиков и сторонников старой, «докритической» метафизики в чистой спекуляции. Однако не всякую спекуляцию он считал бесплодным философствованием: спекулятивное познание приобретает реальный смысл и может быть плодотворным, если оно ставится на основу критической философии, т. е. когда при познании пытаются установить связь между возможным опытом и теми понятиями и категориями, которыми оперирует философ.] априорного знания зиждется именно на таких синтетических, т. е. расширяющих [знание] основоположениях, тогда как аналитические суждения хотя в высшей степени важны и необходимы, но лишь для того, чтобы приобрести отчетливость понятий, требующуюся для достоверного и широкого синтеза, а не для того, чтобы приобрести нечто действительно новое.
V. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы
1. Все математические суждения – синтетические. Это положение до сих пор, по-видимому, ускользало от внимания аналитиков человеческого разума; более того, оно прямо противоположно всем их предположениям, хотя оно бесспорно достоверно и очень важно для дальнейшего исследования. В самом деле, когда было замечено, что умозаключения математиков делаются по закону противоречия (а это требуется природой всякой аподиктической достоверности), то уверили себя, будто основоположения также познаются исходя из закона противоречия; но это убеждение было ошибочным, так как синтетическое положение, правда, можно усмотреть из закона противоречия, однако никак не само по себе, а таким образом, что при этом всегда предполагается другое синтетическое положение, из которого оно может быть выведено.
Прежде всего следует заметить, что настоящие математические положения всегда априорные, а не эмпирические суждения, потому что они обладают необходимостью, которая не может быть заимствована из опыта. Если же с этим не хотят согласиться, то я готов свое утверждение ограничить областью чистой математики, само понятие которой уже указывает на то, что она содержит не эмпирическое, а исключительно только чистое априорное знание.
На первый взгляд может показаться, что положение 7 + 5 = 12 чисто аналитическое [суждение], вытекающее по закону противоречия из понятия суммы семи и пяти. Однако, присматриваясь ближе, мы находим, что понятие суммы 7 и 5 содержит в себе только соединение этих двух чисел в одно и от этого вовсе не мыслится, каково то число, которое охватывает оба слагаемых. Понятие двенадцати отнюдь еще не мыслится оттого, что я мыслю соединение семи и пяти; и сколько бы я ни расчленял свое понятие такой возможной суммы, я не найду в нем числа 12. Для этого необходимо выйти за пределы этих понятий, прибегая к помощи созерцания, соответствующего одному из них, например своих пяти пальцев или (как это делает Зегнер[23 - Зегнер (Segner, Johann, 1704–1777) – немецкий врач, профессор математики и естественных наук в Гёттингене и Галле. Здесь Кант имеет в виду его труд «Anfangsgr?nde der Arithmetik, Geometrie…», 2. Auflage. Halle, 1773.] в своей арифметике) пяти точек, и присоединять постепенно единицы числа 5, данного в созерцании, к понятию семи. В самом деле, я беру сначала число семь и затем, для получения понятия пяти, прибегая к помощи созерцания пальцев своей руки, присоединяю постепенно к числу 7 с помощью этого образа единицы, ранее взятые для составления числа 5, и таким образом вижу, как возникает число 12. То, что 5 должно было быть присоединено к 7, я, правда, мыслил в понятии суммы = 7 + 5, но не мыслил того, что эта сумма равна двенадцати. Следовательно, приведенное арифметическое суждение всегда синтетическое. Это становится еще очевиднее, если взять несколько большие числа, так как в этом случае ясно, что, сколько бы мы ни манипулировали своими понятиями, мы никогда не могли бы найти сумму посредством одного лишь расчленения понятий, без помощи созерцаний.
Точно так же ни одно основоположение чистой геометрии не есть аналитическое суждение. Положение прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками – синтетическое положение. В самом деле, мое понятие прямой содержит только качество, но ничего не говорит о количестве. Следовательно, понятие кратчайшего [расстояния] целиком присоединяется к понятию прямой линии извне и никаким расчленением не может быть извлечено из него. Поэтому здесь необходимо прибегать к помощи созерцания, посредством которого только и возможен синтез.
Только немногие из основоположений, предполагаемых геометрами, суть действительно аналитические суждения и основываются на законе противоречия. Однако они, будучи тождественными положениями, служат только для методической связи, а не в качестве принципов; таковы, например, суждение а = а, целое равно самому себе, или (a + b) > а, т. е. целое больше своей части. Но даже и эти суждения, хотя они имеют силу на основании одних только понятий, допускаются в математике лишь потому, что могут быть показаны в созерцании. Если мы обыкновенно думаем, будто предикат таких аподиктических суждений уже содержится в нашем понятии и, стало быть, суждение аналитическое, то это объясняется исключительно двусмысленностью выражений. Мы должны, как мы говорим, мысленно присоединить к данному понятию некоторый предикат, и эта необходимость связана уже с самими понятиями. Между тем вопрос состоит не в том, что мы должны мысленно присоединить к данному понятию, а в том, что мы действительно мыслим в нем, хотя и смутно. При такой постановке вопроса оказывается, что предикат связан с указанными понятиями, правда необходимо, однако не как нечто мыслимое в самом понятии, а с помощью созерцания, которое должно быть добавлено к понятию.
2. Естествознание (Physica) заключает в себе априорные синтетические суждения как принципы. Я приведу в виде примеров лишь несколько суждений: при всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным или при всякой передаче движения действие и противодействие всегда должны быть равны друг другу. В обоих этих суждениях очевидны не только необходимость, стало быть, априорное происхождение их, но и их синтетический характер. В самом деле, в понятии материи я не мыслю ее постоянности, а имею в виду только ее присутствие в пространстве через наполнение его. Следовательно, в приведенном суждении я действительно выхожу за пределы понятия материи, чтобы мысленно присоединить к нему a priori нечто такое, чего я в нем не мыслил. Таким образом, это суждение не аналитическое, а синтетическое, и тем не менее оно мыслится a priori; точно так же обстоит дело и с другими положениями чистого естествознания.
3. Метафизика, даже если и рассматривать ее как науку, которую до сих пор только пытались создать, хотя природа человеческого разума такова, что без метафизики и нельзя обойтись, должна заключать в себе априорные синтетические знания; ее задача состоит вовсе не в том, чтобы только расчленять и тем самым аналитически разъяснять понятия о вещах, a priori составляемые нами; в ней мы стремимся a priori расширить наши знания и должны для этого пользоваться такими основоположениями, которые присоединяют к данному понятию нечто не содержавшееся еще в нем; при этом мы с помощью априорных синтетических суждений заходим так далеко, что сам опыт не может следовать за нами, как, например, в положении мир должен иметь начало, и т. п. Таким образом, метафизика, по крайней мере по своей цели, состоит исключительно из априорных синтетических положений.
VI. Общая задача чистого разума
Мы бы немало выиграли, если бы нам удалось подвести множество исследований под формулу одной-единственной задачи. Точно определив эту задачу, мы облегчили бы труд не только себе, но и каждому, кто пожелал бы удостовериться, достигли ли мы своей цели или нет. Истинная же задача чистого разума заключается в следующем вопросе: как возможны априорные синтетические суждения?
Метафизика оставалась до сих пор в шатком положении недостоверности и противоречивости исключительно по той причине, что эта задача и, быть может, даже различие между аналитическими и синтетическими суждениями прежде никому не приходили в голову. Прочность или шаткость метафизики зависит от решения этой задачи или от удовлетворительного доказательства того, что в действительности вообще невозможно объяснить эту задачу. Давид Юм, из всех философов ближе всего подошедший к этой задаче, но все же мысливший ее с недостаточной определенностью и всеобщностью и обративший внимание только на синтетическое положение о связи действия со своей причиной (principium causalitatis), пришел к убеждению, что такое положение никак не может быть априорным; согласно его умозаключениям, все, что мы называем метафизикой, сводится к простой иллюзии, ошибочно принимающей за усмотрение разума то, что в действительности заимствовано только из опыта и благодаря привычке приобрело видимость необходимости. К этому утверждению, разрушающему всякую чистую философию, он никогда не пришел бы, если бы задача, поставленная нами, стояла перед его глазами во всей ее всеобщности, так как тогда он заметил бы, что, если согласиться с его доводом, невозможна и чистая математика, без сомнения содержащая в себе априорные синтетические положения, а от такого утверждения его здравый рассудок, конечно, удержал бы его.
Решение поставленной выше задачи заключает в себе вместе с тем возможность чистого применения разума при создании и развитии всех наук, содержащих априорное теоретическое знание о предметах, т. е. ответ на вопросы:
Как возможна чистая математика?
Как возможно чистое естествознание?
Так как эти науки действительно существуют, то естественно ставить вопрос, как они возможны: ведь их существование[8 - Быть может, кто-нибудь еще усомнится в существовании чистого естествознания. Однако стоит только рассмотреть различные положения, высказываемые в начале физики в собственном смысле слова (эмпирической физики), например: о постоянности количества материи, об инерции, равенстве действия и противодействия и т. п., чтобы тотчас же убедиться, что они составляют physica pura (или rationalis), которая заслуживает того, чтобы ее ставили отдельно как особую науку в ее узком или широком, но непременно полном объеме.] доказывает, что они должны быть возможны. Что же касается метафизики, то всякий вправе усомниться в ее возможности, так как она прежде плохо развивалась, и ни одна из предложенных до сих пор систем, если речь идет об их основной цели, не заслуживает того, чтобы ее признали действительно существующей.
Однако и этот вид знания надо рассматривать в известном смысле как данный; метафизика существует если не как наука, то, во всяком случае, как природная склонность [человека] (metaphysica naturalis). В самом деле, человеческий разум в силу собственной потребности, а вовсе не побуждаемый одной только суетностью всезнайства, неудержимо доходит до таких вопросов, на которые не могут дать ответ никакое опытное применение разума и заимствованные отсюда принципы; поэтому у всех людей, как только разум у них расширяется до спекуляции, действительно всегда была и будет какая-нибудь метафизика. А потому и относительно нее следует поставить вопрос: как возможна метафизика в качестве природной склонности, т. е. как из природы общечеловеческого разума возникают вопросы, которые чистый разум задает себе и на которые, побуждаемый собственной потребностью, он пытается, насколько может, дать ответ?
Но так как во всех прежних попытках ответить на эти естественные вопросы, например на вопрос, имеет ли мир начало или он существует вечно и т. п., всегда имелись неизбежные противоречия, то нельзя только ссылаться на природную склонность к метафизике, т. е. на самую способность чистого разума, из которой, правда, всегда возникает какая-нибудь метафизика (какая бы она ни была), а следует найти возможность удостовериться в том, знаем ли мы или не знаем ее предметы, т. е. решить вопрос о предметах, составляющих проблематику метафизики, или о том, способен или не способен разум судить об этих предметах, стало быть, о возможности или расширить с достоверностью наш чистый разум, или поставить ему определенные и твердые границы. Этот последний вопрос, вытекающий из поставленной выше общей задачи, можно с полным основанием выразить следующим образом: как возможна метафизика как наука?
Таким образом, критика разума необходимо приводит в конце концов к науке; наоборот, догматическое применение разума без критики приводит к ни на чем не основанным утверждениям, которым можно противопоставить столь же ложные утверждения, стало быть, приводит к скептицизму.
Эта наука не может также иметь огромного, устрашающего объема, так как она занимается не объектами разума, многообразие которых бесконечно, а только самим разумом, задачами, возникающими исключительно из его недр и предлагаемыми ему собственной его природой, а не природой вещей, отличных от него; в самом деле, когда разум сперва в полной мере исследует свою способность в отношении предметов, которые могут встречаться ему в опыте, тогда легко определить со всей полнотой и достоверностью объем и границы применения его за пределами всякого опыта.
Итак, мы можем и должны считать безуспешными все сделанные до сих пор попытки догматически построить метафизику. Если некоторые из них заключают в себе нечто аналитическое, а именно одно лишь расчленение понятий, a priori присущих нашему разуму, то это вовсе еще не составляет цели, а представляет собой лишь подготовку к метафизике в собственном смысле слова, а именно для априорного синтетического расширения нашего познания; расчленение не годится для этого, так как оно лишь показывает то, что содержится в этих понятиях, но не то, каким образом мы приходим a priori к таким понятиям, чтобы затем иметь возможность определить также их применимость к предметам всякого знания вообще. К тому же не требуется большой самоотверженности, чтобы отказаться от всех этих притязаний, так как неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собой давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику. Значительно большая стойкость будет нужна для того, чтобы трудности в нас самих и противодействие извне не воспрепятствовали нам содействовать при помощи метода, противоположного существовавшим до сих пор, успешному и плодотворному росту необходимой для человеческого разума науки, всякий произрастающий ствол которой нетрудно, конечно, срубить, но корни которой уничтожить невозможно.
VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума
Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания. Поэтому чистым мы называем разум, содержащий принципы безусловно априорного знания. Органоном[24 - Органон (древнегреческое ??????? – орудие, инструмент, средство). – В философии означает средство или орудие правильного мышления и исследования. Под общим названием «Органон» были собраны и изданы логические труды Аристотеля. Бэкон назвал свой основной труд «Новым органоном» именно в смысле нового метода, «орудия», или инструмента исследования. Кант употребляет слово «органон» в смысле орудия познания или средства приобретения (синтетических) знаний в противовес канону.] чистого разума должна быть совокупность тех принципов, на основе которых можно приобрести и действительно осуществить все чистые априорные знания. Полное применение такого органона дало бы систему чистого разума. Но так как эта система крайне желательна и еще неизвестно, возможно ли и здесь вообще какое-нибудь расширение нашего знания и в каких случаях оно возможно, то мы можем назвать науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой к системе чистого разума. Такая пропедевтика должна называться не учением, а только критикой чистого разума, и польза ее по отношению к спекуляции в самом деле может быть только негативной: она может служить не для расширения, а только для очищения нашего разума и освобождения его от заблуждений, что уже представляет собой значительную выгоду. Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией. Однако и этого для начала было бы слишком много. Ведь такая наука должна была бы содержать в полном объеме как аналитическое, так и априорное синтетическое знание, и потому, насколько это касается нашей цели, она обладала бы слишком большим объемом, так как мы должны углубляться в своем анализе лишь настолько, насколько это совершенно необходимо, чтобы усмотреть во всей полноте принципы априорного синтеза, единственно интересующие нас. Мы занимаемся здесь именно этим исследованием, которое мы можем назвать собственно не учением, а только трансцендентальной критикой, так как оно имеет целью не расширение самих знаний, а только исправление их и должно служить критерием достоинства или негодности всех априорных знаний. Поэтому такая критика есть по возможности подготовка к органону или, если бы это не удалось, по крайней мере к канону, согласно которому, во всяком случае в будущем, могла бы быть представлена аналитически и синтетически совершенная система философии чистого разума, все равно, будет ли она состоять в расширении или только в ограничении его познания. Что такая система возможна и даже будет иметь вовсе не столь большой объем, так что можно надеяться вполне завершить ее, – на это можно рассчитывать уже ввиду того, что не природа вещей, которая неисчерпаема, а именно рассудок, который судит о природе вещей, да и то лишь рассудок в отношении его априорных знаний, служит здесь предметом, данные (Vorrat) которого не могут остаться скрытыми от нас, так как нам не приходится искать их вовне себя, и, по всей вероятности, они не слишком велики, так что можно вполне воспринять их, рассмотреть их достоинство или негодность и дать правильную их оценку. Еще менее следует ожидать здесь критики книг и систем чистого разума; здесь дается только критика самой способности чистого разума. Только основываясь на этой критике, можно получить надежный критерий для оценки философского содержания старых и новых сочинений по этому предмету; в противном случае некомпетентный историк и судья рассматривает ни на чем не основанные утверждения других исходя из своих собственных, в такой же мере необоснованных утверждений.
Трансцендентальная философия есть идея науки, для которой критика чистого разума должна набросать архитектонически, т. е. основанный на принципах, полный план с ручательством за полноту и надежность всех частей этого здания. Она представляет собой систему всех принципов чистого разума. Сама эта критика еще не называется трансцендентальной философией исключительно потому, что она должна была бы содержать в себе также обстоятельный анализ всего априорного человеческого познания, чтобы быть полной системой. Наша критика, правда, должна также дать полное перечисление всех основных понятий, составляющих указанное чистое знание, однако она совершенно правильно воздерживается от обстоятельного анализа самих этих понятий, а также от полного перечня производных из них понятий отчасти потому, что такое расчленение не было бы целесообразным, поскольку оно не связано с затруднениями, встречающимися в синтезе, ради которого предпринята вся эта критика, а отчасти потому, что попытка взять на себя ответственность за полноту такого анализа и выводов нарушила бы единство плана, между тем как этого вовсе не требует поставленная цель. Этой полноты анализа и выводов из априорных понятий, которые мы изложим в настоящем сочинении, нетрудно будет достигнуть, если только сначала будут установлены эти понятия как разработанные принципы синтеза и если в отношении этой основной цели ничего не будет упущено.
Таким образом, к критике чистого разума относится все, из чего состоит трансцендентальная философия: она есть полная идея трансцендентальной философии, но еще не сама эта наука, потому что в анализ она углубляется лишь настолько, насколько это необходимо для полной оценки априорного синтетического знания.