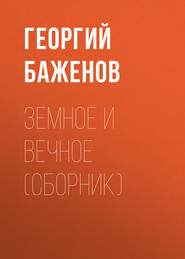скачать книгу бесплатно
Земное и вечное (сборник)
Георгий Викторович Баженов
Верите ли вы, что вы вечны? Конечно, нет. (Конечно, да!) Верите ли, что будете жить после смерти? Конечно, нет. (Разумеется, да!) Верите ли в бессмертие души? Ну, нет! (Ой, все верят!)
Вот о чем думают, чем мучаются герои нового популярного романа Георгия Баженова «Бинго».
«Любина роща» – лучший роман из более чем тридцати книг Георгия Баженова, созданных писателем за долгую литературную карьеру.
Многие годы роман вынужденно пролежал в столе автора, затем наконец был напечатан и неоднократно с успехом переиздавался в России.
Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.
Георгий Баженов
Земное и вечное. Бинго. Любина роща. Два романа
Бинго
Роман
«…ужас ближе к тайне бытия, чем тоска, ужас духовнее, тоска же душевнее».
Н. А. Бердяев
Часть первая
Кто – некто – никто
Антон Иванович, внешне похожий на Георгия Баженова, автора этого романа, нажал на кнопку звонка.
Вошел заместитель Антона Ивановича Максим Владимирович.
– Слушай-ка, Максим, нельзя ли сделать так, чтобы… назывались мы не Департаментом… а, скажем, Академией?
– Надо посоветоваться с Еленой Михайловной.
– При чем тут Елена Михайловна?
– Ей же подписывать финансовые документы. Она главбух.
– Ладно тебе – главбух!
– Да можно, можно, конечно, Антон Иванович. Сейчас, сами знаете…
– Вот и договорились.
Через неделю на столе Антона Ивановича лежала папка с документами, из которых следовало, что отныне их Департамент преобразовывается в «Академию рецензирования». Приказом № 1 Антон Иванович назначил себя президентом Академии, Максима – вице-президентом, а Елену Михайловну – финансовым и исполнительным директором.
Кстати, штатных работников в Академии как раз три человека.
Странная штука – жизнь. Когда-то Антон Иванович заведовал крохотным отделом писем в небольшом столичном журнале. Потом была работа в другом журнале, третьем, в издательстве, в Доме печати, в газетном консорциуме, отделы назывались по-разному: отдел регистрации откликов, отдел по работе с общественностью, отдел стандартизации отзывов и бог его знает еще как…
В конце концов Антон Иванович открыл свое дело. Как только ни назывались его фирмы, последняя, например, так: «Департамент немедленного рецензирования». Заказы лились рекой. Многим предпринимателям, фирмам или компаниям хотелось иметь солидное заключение, набранное на гербовой бумаге, где бы черным по белому значилась наивысшая похвала от Департамента Антона Ивановича.
Антон Иванович помогал фирмам делать имидж, не только помогал, но и делал это вполне успешно. В таком случае отчего бы Департаменту не превратиться в Академию?
Так на свет появилась «Академия рецензирования», президентом которой, естественно, стал Антон Иванович Гудбай.
Антон Иванович любил работать дома, в собственной квартире. У него был большой кабинет, весь заставленный книгами; книги он не только читал и перечитывал, но обожал их, трогал, перекладывал, переставлял с места на место, одним словом – любил их беззаветно.
Надо сказать, что часто, когда он садился читать или писать, какая-то странная волна мечтаний-фантазий как бы подхватывала его на свое крыло и уносила в немыслимые дали…
В тот, первый свой день президентства, он захватил с собой папку, которую передал ему Максим Владимирович, и уехал домой. Дома он устроился в кабинете за большим письменным столом и начал потихоньку набрасывать тезисы авторецензии, то есть решил обстоятельно проанализировать, как, каким образом и благодаря чему их Департамент смог подняться до высоты Академии рецензирования.
И вот только начал он испытывать творческий подъем, когда слова как бы сами собой полились из-под пера (а писал он всегда по-старинке, только ручкой), тут-то и подала голос собака наверху, из квартиры этажом выше. Всякий раз Антон Иванович забывал про нее, и всякий раз это было для него сюрпризной неожиданностью. Некоторые (даже многие) не любят собачьего лая, а когда собаки воют, тут людям бывает совсем невмоготу, но Антон Иванович научил себя абсолютно новому восприятию собачьего искусства.
Доберман наверху, по кличке Бинго, очень часто оставался в квартире один, но как раз одиночества не переносил совершенно. Стремительный, с резкими движениями, нервно-горячий, с огоньковой безуминкой в охро-золотистых глазах, он производил впечатление обожаемого, любимого дитя-первенца, неожиданно брошенного родителями на произвол судьбы.
Что делает дитя, брошенное на произвол судьбы? Конечно, плачет, кричит, заливается горючими слезами…
Но, с другой стороны, когда поет птица, мы совсем не знаем, горюет она или радуется; нам, конечно, кажется, что она радуется, а она просто подает голос, а что в этом голосе – радость или отчаяние, мы не знаем; просто нам нравятся звуки, которые издают птицы, и поэтому мы считаем, что они поют, что это их песни, а может – это их слезы? их зов к нам? их бездонное одиночество, взывающее к общению с ними?
«Ах, если бы собаки могли петь! – подумал как-то Антон Иванович. – Разве бы они раздражали нас своим воем и гавканьем?» И вот Антон Иванович научил себя этому искусству: воспринимать лай, вой и гавканье собак как некое сладостное пение птиц, ибо все дело в том, как мы настроены слышать и слушать окружающий нас мир.
Бедный и сказочный Бинго завыл… Он выл наверху, один в четырехкомнатной квартире, как красногрудый чечень в клетке или как цветисто-разнопёрый щегол в садке, выл сладострастно и упоённо; он выл о своем одиночестве и тоске, о своей брошенности и конченности мира, он выл, но выл как пел, и Антон Иванович испытывал настоящее наслаждение, близкое к упоению, ибо научил себя воспринимать горечь и отчаяние, одиночество и страх как самую глубокую, щемяще-искреннюю песню, которая невольно рвется из груди любого живого существа.
Сегодня Бинго выл, а это значит, что дома он был один… и песня его была жуткая, пронзительная и жалостливая, безмерная в своей отрешенности и силе.
Ведь, когда, например, в квартире наверху оставался еще юноша Митя, студент-первокурсник социально-астрономического колледжа (в Москве случаются такие заведения), то Бинго, по надоедливости своей, запирался Митей в одной из комнат, и тогда вой сменялся лаем, методично-густым, настырно-напористым и агрессивно-блистательным. Митя, вероятно, не обращал на лай никакого внимания, пусть лает, лишь бы не мешал в обычных житейских делах (то девочки, то музыка, то курсовые, а то еще что-то), зато наслаждался лаем собаки Антон Иванович.
Лай – это не песня чеченя или щегла; это скорей одиноко-звучные посвистыванья снегиря, резкие подсвиркиванья синицы или, наконец, дробные призывы кукушки: в лае своя сказачно-прерывистая, густая, глубинная и утробная музыка. Именно эту музыку научился слушать Антон Иванович. Он как бы с каждым новым гавканьем поднимался все выше и выше на облаках воспарённости, поднимался упругими, дерзкими толчками, всё дальше ввысь, в бездонные верха, так что когда, например, лай обрывисто прекращался, Антон Иванович словно кубарем катился вниз, из глубин поднебесья в житейскую трясину.
А ведь кроме воя и лая Бинго владел многими другими песнями, например, потявкиванием, повизгиванием (когда в дом возвращались хозяева) или скулением (просишь-просишь, а тебя не слышат), или иными песнями, которые будто и не песни уже, а так… подпевки или речитативные припевы.
Но вот в тот день, когда Антон Иванович стал президентом Академии, когда приехал домой, устроился в кабинете и начал горделиво анализировать на бумаге, каким образом он достиг вершин карьеры, в тот день Бинго именно завыл, а не загавкал; завыл, как всегда, пронзительно и страстно, но и как-то по-особому тревожно, горестно и призывно. Это был не вой, это был надрывный плач, и как всякий высокий и глубокий плач, он являлся сердечной, горестной, морозящей кожу песней, так что Антон Иванович отложил перо и надолго погрузился в глубины и высоты упоённого собачьего песенного гореванья.
И что странно, только сегодня, став президентом Академии (может, это было чистое совпадение), Антон Иванович расслышал в песне Бинго что-то новое, неожиданное и потустороннее. Что-то такое, что мешало Антону Ивановиче вполне насладиться собачьим пением, его сложным и особым искусством.
Как бы наконец-то разом, в секунду, Антон Иванович почувствовал, что чужая песня, хоть горькая, хоть сладкая, это только для слушающих радость, а для поющего – это целый надрывный мир: ты воешь, и песней твоей наслаждаются, но у тебя-то сердце разрывается на части, оно разбухает от крови, сосуды напряженно и гулко пульсируют, густая кровь разжижается и бьет волна за волной в сердце так, что оно раздувается как огненный кровяной шар, который готов лопнуть… готов, но не лопается, а только полнится и полнится болью, и от боли этой нет спасения, потому что сердце не разрывается – оно слишком еще молодое и сильное.
Антон Иванович поневоле ощутил призыв к какому-то неясному, но решительному действию. Он ведь давно знал и понял, как рос маленький Бинго, милый забавный и проказливый щенок, как все любили его, жалели и ласкали, и, пока он был маленький, его никогда не оставляли в одиночестве, и даже спал он всегда вместе с хозяевами на широкой теплой постели, с краешку, в уголочке, уткнувшись носом в легкое ватное одеяло. Мир для него – это когда постоянно рядом живые добрые сказочные существа: хозяин, хозяйка и их сын Митя, и, когда Бинго подрос, с ним случилась первая грозная беда: его на час или на два оставили в квартире одного. Мир закатился для него в преисподнюю, разразилась катастрофа, он не мог понять, что случилось, где он, что происходит, куда деть себя в одиночестве, и он выл, лаял, гавкал, бросался на дверь, кричал, стенал, плакал, слезы мелкими горошинами катились из его глаз… Катастрофа эта стала повторяться все чаще, все на большие и большие промежутки времени, но Бинго, почти как всякий доберман, не мог привыкнуть к этому, катастрофа не становилась закономерной частью его жизни, она оставалась просто катастрофой, бездной, небытием, крушением, черной дырой. И всякий раз Бинго бесновался, как будто наступил конец света, он и выл, и лаял, и гавкал, и рычал, и скулил, и визжал, и тявкал, но больше всего выл и выл… не переставая… не переставая…
В большом (в двадцать два этажа) доме кто-то любил Бинго, кто-то его ненавидел за беспокойный характер и бесконечное гавканье и вытье, и только Антон Иванович, ближайший снизу сосед, научился слышать в тоске и безумии Бинго глубокую и искреннюю песню. Пусть выл, но как выл! Пусть гавкал, но как гавкал! Так глубоко и страстно могут петь только птицы: щеглы и чечётки, канарейки и свиристели, снегири и чижи.
Но в этот раз… но в этот раз, когда Антон Иванович стал президентом Академии и приехал домой всласть поработать над авторской рецензией, он разобрал в песне Бинго что-то новое, иное, совсем другое, что слышал всегда: Бинго выл не как пел, а пел как просил (и умолял) о пощаде: не могу больше жить! не хочу больше жить! помогите избавиться от страданий, от жизни, от тоски и безумия!
Антон Иванович (заглянем ему в сердце) считал себя единственным человеком на свете, кто правильно понимал Бинго, и, поняв Бинго и на этот раз, хотя и не разделяя его взгляда на жизнь (петь нужно до конца и не просить ни у кого и ни у чего пощады!), Антон Иванович оторвался от рукописи и спросил себя прямо и вполне серьезно: «Что делать?»
«Как что делать?!» – таков был тут же ответ его.
Антон Иванович выбрался из-за стола и, будто находясь в сомнамбулическом состоянии, вышел из квартиры и поднялся по лестнице на один этаж выше. У него был ключ от квартиры соседей, так, совершенно случайно, хотя прихватил он его когда-то осознанно, но как во сне. Бинго от радости чуть не сшиб Антона Ивановича с ног, когда тот открыл дверь, стал прыгать вокруг него, ласкаться, лизать руки, вертеться вокруг него юлой (ведь они были уже неплохо знакомы). Антон Иванович подхватил Бинго на руки, приласкал его и, подойдя к окну, открыл раму, а затем резким, неожиданным для Бинго движением выбросил собаку из окна. Лети, Бинго! Отныне ты свободен!
С этого дня, как Антон Иванович стал президентом Академии рецензирования, он больше не мог слушать пение птицы под названием «собака Бинго». Он выпустил «птицу» на волю и спас её от разрыва сердца.
Вернувшись на работу с недописанной рецензией, Антон Иванович увидел на своем столе записку от Максима Владимировича: «Вас ищет друг детства Капитонов. Телефон секретарши: 906-06-06. Просят позвонить. Я уехал в издательство. Максим».
– Капитонов… Капитонов, – пробормотал Антон Иванович. – Ах, да, Капитонов… Витя… Виталий…
Близкими друзьями детства они не были, учились, правда, в одном классе, даже жили на одной улице на Урале, в далекой глубинке, в небольшом поселке Северный, зато было другое: оба любили одну и ту же девочку по имени Эля, Эльвира Хмельницкая… Но все это как в тумане, конечно, и детство, и школа, и девочка Эля, и даже поселок Северный. А впрочем…
Антон Иванович давно привык, что его часто ищут и находят самые неожиданные люди, в нынешней жизни он нужен многим, но друзья детства… того детства, когда им было по семь, десять или двенадцать лет… нет, такого еще не было… из такого далека никто его не разыскивал.
Антон Иванович набрал нужный номер, и приятный женский голос запел-заворковал на другом конце провода:
– Антон Иванович? Немедленно соединяю вас с Виталием Константиновичем, немедленно!
И не успел еще Антон Иванович вполне насладиться женской вкрадчивой и многообещающей ласковостью, как в трубке загудел другой голос, густой, но радостно-напористый, бодрый, а главное удивительно молодой и свежий:
– Тоша?! (Да, так его звали в детстве…) Где ты запропастился? Ты не поверишь, я тебя целый год ищу… ведь у меня юбилей. Так стукнуло, что о годах и вспоминать не хочется! Короче: юбилей позади, опоздал ты, Тоша, со своими поздравлениями, но! Но в баньку мы с тобой сегодня сходим! В парилочку! Я, знаешь, не люблю всяких там богатых саун и загородных дворцов, я по-простому, как у нас в детстве, в Северном, помнишь?! Так вот, встречаемся сегодня, в пятнадцать ноль-ноль, в Разумовских банях, это недалеко от тебя, знаешь?!
– Да, но…
– А теперь, Тоша, самое главное: не говори, что не можешь! И слышать не хочу!
– Да, но… («Как хоть мы узнаем друг друга?» – хотелось в конце концов спросить Антону Ивановичу.)
– Я же говорю: никаких но! Всё! До встречи! – И Виталий Капитонов положил трубку.
Когда они только переехали в новую квартиру, они никак не ожидали, что впереди будет столько сюрпризов. Главных сюрпризов было три: лай и вой собаки; стук по утрам женских каблуков с железными, цокающими по паркету набойками; и третье – методичное, как бы потустороннее, но тем не менее реальное стучание какой-то деревяшки по другой деревяшке примерно с полуночи и, бывало, до раннего утра. Надо же случиться такому совпадению: когда они переезжали, соседи сверху – вероятней всего – были на даче, стояло теплое лето, и они так радовались, что в эти летние дни успеют сделать капитальный ремонт в квартире, а затем с осени, как раз с сентября, смогут начать размеренную спокойную жизнь.
И вдруг началось…
Поначалу казалось: происходит что-то нереальное, такого не может быть, ведь должны же люди (соседи наверху) понимать, что причиняют другим неудобства, мешают жить, нарушают чужой мир, спокойствие и тишину.
Пытались стучать им по трубе: эй, мол, там, наверху, потише! Никакой реакции.
Пожаловались старшей по подъезду (Ангелине Петровне).
– Да что вы говорите?! – Глаза Ангелины Петровны округлились до размеров малых блюдечек, из которых она любила пить чай (Антон Иванович об этом узнал чуть позже). – Да, да, да, у них есть собачка, такая милая, шикарная собачка, да что вы говорите, надо же, лает, воет, я никогда не слышала, вообще-то они люди достойные, серьезные, мы их давно знаем, сын Митенька учится вместе с моим внуком в социально-астрономическом колледже («Что бы это такое могло быть?!»), жена работает в серьезном учреждении, а сам хозяин прокурор или что-то в этом роде, раньше служил, был полковником, а теперь в суде, кажется, обвинителем или что-то такое, а каблуки… ну что каблуки… все мы женщины, утром на работу спешим, тут уж мы должны понимать друг друга, пойти на уступки, а вот что стучат деревяшками по ночам – не может быть, потому что есть у нас одна старенькая пара, на одиннадцатом этаже, немножко со странностями старики, как бы чуть свихнувшиеся от нынешней жизни, так вот они точно стучат по ночам, все им кажется, что кто-то крадется к ним, пытается ограбить, вот они и стучат, предупреждают: мы начеку, мы дома, а что ваши соседи стучат, этого не может быть, это просто кажется, резонанс такой, потому что соседи над вами живут положительные, собачка у них милая, добрая, ну что ж, что воет или гавкает, животное же, все мы не без греха, что делать… там и напротив ваших соседей одна пара живет, тоже с собачкой, хорошо отзываются друг о друге, вы уж, Антон Иванович, Марина Михайловна, потерпите немного, войдите в положение, не ссорьтесь и не ругайтесь, а я со своей стороны обещаю: поговорю с ними, поговорю, обязательно поговорю…
Но ничего не изменилось и после этого разговора.
Несколько раз Марина Михайловна, жена Антона Ивановича, звонила соседям по телефону (номер их она узнала у консьержки внизу). Про собаку ответ был таков (в виде вопроса):
– Вы не любите животных?
– Люблю.
– Ну так вот, если вы любите животных, вы должны знать, что собака тоже животное, и у нее есть свои особенности, она охраняет дом, лает, гавкает или воет, и я ничего не могу поделать с ней. Не убивать же ее ради вас? Да и не для того мы ее заводили. Всего доброго!
А про каблуки и громкое цоканье по паркету разговор еще короче:
– Ну уж в чем ходить по дому, в сабо или хоть в колодках, это мое личное дело, и по этому вопросу я советоваться ни с кем не собираюсь!
А про то, что в квартире у них по ночам стучат какими-то деревяшками, совсем коротко:
– Бред какой-то! – И швыряли трубку.
Марина Михайловна потихоньку сходила с ума. Можно многое вытерпеть в жизни: и лай собак, и грохотанье каблуков, и ночные колотушки над головой, но как понять другое: почему одни люди не считаются с другими?! И уж совсем растеряла она всякое понимание, когда на ее очередной звонок по телефону ответил не женский голос, а мужской, который с ходу заорал в трубку:
– Слушай, ты, если ты еще раз позвонишь, я тебя!.. Ты кто такая? Какого хрена звонишь? Чего тебе надо? Попробуй только еще раз позвонить! Я тебя в порошок сотру! Поняла?!
На этот раз трубку швырнула сама Марина Михайловна.
Через несколько минут раздался звонок в дверь. Антон Иванович, ничего не подозревая, смело щелкнул замком, и тут в квартиру ворвался огромный ощетинившийся разъяренный зверь (так показалось). На самом деле влетел низкорослый крепкий мужик с выпученными глазами и коротко стриженной головой. Проскочив Антона Ивановича (как мимо пустого места), мужик подлетел к Марине Михайловне (которая все еще в оторопи стояла рядом с телефонным аппаратом) и начал орать, как будто не закончив оборвавшийся разговор:
– Ты поняла, что я тебе сказал?! Я тебя спрашиваю: поняла или нет? Кто вообще дал тебе наш телефон? Попробуй только позвонить еще раз! Да я тебя… Я тебя уничтожу!
– Простите, вас как зовут? – раздался спокойный голос Антона Ивановича.
Мужик как бы крутанулся на месте, округлённо вытаращив глаза, и в недоумении уставился на Антона Ивановича: это еще кто такой?!
– Я спрашиваю: как ваше имя-отчество?
– А тебе какое дело? Ты кто? Учитель? В очёчках ходишь?! Смотри, учителишко, я и тебя раздавлю – не пикнешь!
– Нет, я не учитель. А все-таки как вас зовут?
– Ну, Тимур Таранович (на самом деле Терентьевич; но так послышалось).
– Так вот, Тимур Таранович…
– Не Таранович, а Терентьевич!
– Извините, ослышался… Так вот, Тимур Терентьевич, прошу вас выйти из моей квартиры. Когда входят в дом, прежде всего здороваются.
– Чего-чего?!
– Вы не поздоровались, Тимур Терентьевич. Прошу вас выйти из моего дома. – И Антон Иванович легонько так, по-простецкому, взял Тимура Терентьевича под локоток и повел к выходу.
– Точно – учитель! – оторопело произнес сосед, но, самое главное, послушно последовал к двери.
– Всего доброго, до свидания!
Но прежде чем Антон Иванович захлопнул перед соседом дверь, тот все-таки успел погрозить ему пальцем:
– Смотри у меня!
В издательстве Максим Владимирович подписал корректуру трехтомника (подарочное издание избранных рецензий Академии) и поехал в Одинцово, немного отдохнуть и отвлечься от московской мышиной беготни. В паре с Антоном Ивановичем он работал лет пять, с делом справлялся легко, играючи, был исполнителен и аккуратен, единственное – не мог до конца проникнуться серьезностью их «академического» занятия: ну, рецензии, ну, отзывы… что такого-то? Антон Иванович бесстрастно поучал: рецензия – это квинтэссенция нынешней жизни, это тончайший пилотаж в анализе сегодняшнего «праздника жизни», ибо, давая наивысшую оценку любой фирме или компании (им так хочется), ты одновременно отмечаешь в своей картотеке: фирма дрянь, а компания того хуже, одни подлецы и мошенники. Таким образом, постепенно, день за днем ты фиксируешь истинный ход истории, которая всегда двухслойна: вот это мы видим, а вот это мы знаем.