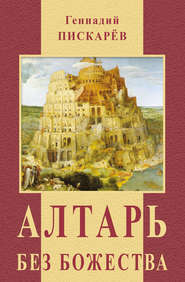скачать книгу бесплатно
Алтарь без божества
Геннадий Александрович Пискарев
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества. Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.
Геннадий Пискарев
Алтарь без божества
© Пискарев Г. А., 2011
Путь к преображению
Предшественник великого русского мыслителя В.И Вернадского, указавшего основную цель нового творческого, духовного эона бытия ноосферы, философ-космист, называемый еще «философом памяти», Николай Федорович Федоров дерзновенно писал в оригинальных трудах о том, что развитое нравственное чувство личности требует спасения буквально всех погибших, всех утраченных. Он вел речь о возможности «воскрешения» и преображения прошлого, призывал живых обратиться сердцем и умом к минувшему, дабы не произошло одичания «сынов человеческих», превращения их в «блудных сынов, пирующих на могилах отцов». Произойди это, пишет мыслитель, и в человеке не будет не только любви, но и правды. Положение усугубится, если излишек силы, процент на капитал, полученный от отцов, употребится на невежественное слепое рождение (читай животное существование – Г.П.), а не на просвещение и на возвращение его кому следует.
Философ предчувствовал: такое вполне может статься. И не ошибся. Невежественное теперешнее наше существование, удаление от истинного собственного просвещения поставили на грань выживания подлинного хозяина Святой Руси. Недруги наши копают под нас со всех сторон, говоря с желчью и злобой: нет, и не может быть такой нации – русский. Русский – есть прилагательное, в то время как другие нации мира определяются существительным: еврей, немец, француз, китаец. Ну, и так далее. Да, нас лишают национального самосознания, мы сейчас и не русские даже, а россияне, русскоязычные – без соответствующей записи в паспорте. Нам не дают вспомнить, что мы тоже когда-то были именем существительным, а не прилагательным. Русс! Какая это часть речи? А «гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс!» Что это?
Самодовольно погрязшие в низшей свободе, свободе метаться во все стороны, изведывать все искусы, лишенные возможности спокойного духовного общения, подспудно мы все-таки чувствуем гибельность навязанного нам образа жизни. Раздробленное, расколотое государство, разбитые вдребезги совесть и честь не соединенных общим делом людей, не могут стать залогом поступательного движения.
«Действительно спастись, то есть возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми» (Н. Ф. Федоров). Обратим внимание в этой глубокомысленной фразе на слово «возродить». Возродить – значит восстановить, что было когда-то. «И Бог воззовет прошедшее» (Екклесиаст). Он сделает это без нашей помощи. Но в том-то и величайшая милость Всевышнего: он позволяет сотворенному из праха человеку соработничество с Собой. Грех, непростительный грех, не принять сие от Творца всего сущего.
Собрав свои скудные силы и возможности, попытался и я оживить свою память, поведать хотя бы о том, чему был свидетелем сам или слышал от старших товарищей, родных и близких, тех, кто нес в душе любовь к Отчизне, божество общего дела, наполняя, украшая тем самым главное место в Христовой церкви – алтарь.
Понимаю, насколько ничтожна тут лепта моя. Но, отойдя от высокомудрых мыслей, поведаю басню, которую рассказала мне, кстати, младшая дочка Наташа, представительница времени нового. Что, в общем-то, весьма симптоматично.
Ежик пришел к Сове, попросил объяснить, к чему у него чешется передняя левая лапка? Сова объяснила. «А правая?» – спросил колючий. И на это ответила мудрая птица. «Но у меня и задние лапки чешутся», – продолжал донимать Сову незадачливый зверек.
Что же сказала на это «толковательница примет»?
– Помойся, ежик.
Может, и нам всем следует помыться, смыть «мерзость запустения», почистить себя, пусть не под Лениным, как это делал Маяковский по собственному признанию, а под более мощными и благодатными «энергетическими струями», без коих и Земля бы была мертва. Как (непотребная) пустыня.
(Последняя строка, не правда ли? – что-то пушкинское напоминает. Сравнивая неочеловеченную, а стало быть, и бездуховную планету нашу с пустыней, поэт-пророк не дал ей в миниатюрном шедевре своем нужного определения, поставил перед словом пустыня многоточие. Да, простит Александр Сергеевич мне наглость и самомнение – я окрестил, как видите, пустыню непотребной. А, может, и нет в том ничего крамольного? Ведь я рискнул назваться, хотя и ничтожным, да соработником Бога. И Он не отверг, кажется, моего намерения).
Геннадий Пискарев
P.S. Название книги «Алтарь без божества» – (должен предупредить читателя) есть по большому счету антитеза содержанию общего повествования, в ходе которого оперирую больше фактами добрыми и благочестивыми, несмотря на то, что они имели место в советской стране и были вызваны к жизни соответствующим режимом.
И еще. Говоря о единении людей того времени, их победах в битвах за урожай ли, или за высокие показатели в соцсоревновании, я не убираю из материалов цифр, подтверждающих достижения в производительном труде. С них, с этих достижений, начинались в ту пору все новостные передачи на телевидении, радио, в печати. С них – а не с леденящих, разрушающих волю и душу сообщений о непрекращающихся катастрофах теперь.
Часть I. Животворящая святыня
О, года! – серебряные нити,
Не одной из вас я не порву.
А, напротив, сердцем к вам приникну,
Жизнь вторую с вами проживу.
Г.П.
Воспоминаний длинный свиток
Как трудно с годами писать четко и ясно, с твердым, не подлежащим сомнению, твоим собственным представлением о том или ином явлении, событии, человеке. Вероятно, это происходит от того, что жизнь подошла к определенному пределу и в этот момент, как давно уже говорят старые люди, она в одно мгновенье пробегает перед глазами. В стремительном калейдоскопе мелькают картины доброго и злого, высокого и низкого, безудержно веселого, радостного и страшно-тоскливого, отчаянного – всего того, что, как амплитуда, колебалось в мятежной душе не протяжении не простого жизненного пути.
И все-таки даже в это смутное время возьмет да и посетит тебя счастливый миг, когда прошлое встает очищенным от всевозможных мерзостей и пакостей. И тогда начинаешь понимать смысл слов, сказанных Оноре де Бальзаком, что воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не сможет изгнать. Точно: воспоминания, память, это уже мое утверждение, как вдохновение поэта, величавы и искренни и, как духовный порыв, чисты и бескорыстны.
Как часто всплывает в воображении моя родная деревенька Пилатово с ее простодушными жителями, бревенчатыми серыми избами, от которых веяло какими-то древними поверьями, где зарождались некогда народные песни и сказки, загадки и былины. Как вожатый из пушкинской «Капитанской дочки», она возникает перед моими глазами то из-за плотной пелены падающего с небес и вихрящегося в метельном танце снега, то в курящейся синей дымке жаркого лета, когда она, стоящая на взгорке, под проносящимися над нею белоснежными облаками, кажется, плывет в необъятную небесную ширь и высь – к Богу.
Видится отчий дом с прикрылечным темным колодцем, со дна которого можно было узреть небесные звезды в яркий солнечный день. Слышатся порою таинственные шорохи и ощущаются таинственные тени, падающие от ликов святых, что смотрели с почерневших икон, озаряемых колеблющимся желтым светом, исходящим от зажженной перед ними посеребренной лампады. А то вдруг стиснет сердце цепеняще-тревожный трепет – страх, какой одолевал в вечерние часы при чтении в одиночестве гоголевского «Вия» или «Страшной мести».
Я вижу горящую в алмазном убранстве березу, двурогий месяц над покатой заснеженной крышей картофелехранилища, с которого отчаянные парни скатываются лихо на тупоносых охотничьих лыжах вниз. А мне, смотрящему на них через разрисованное морозом окошко, кажется: не с крыши слетают ребята, а непосредственно с позолоченного лунного диска.
Нет теперь обители детства, колыбели души моей – отчего дома и укутанной маревом таинственных видений родной деревни с непонятным названием Пилатово, отмечавшей свой престольный праздник ежегодно 10 августа, называвшийся (также непонятно для меня) – «Смоленская».
Воспитанник осовеченной школы, я в ту далекую, детскую пору не думал, конечно, о происхождении этих названий. Только впоследствии, когда приехал на учебу в Москву, обожгло меня при посещении Новодевичьего монастыря открытие: я увидел там храм преподобной матери Смоленской – Святой девы Марии, давшей по Божьей воле земному миру Бога-сына – Иисуса Христа. И начали в моем сознании облекаться в некую логическую цепочку странные мистические явления, например, что отец мой, как и несколько десятков односельчан, погиб во время Великой отечественной войны не где-то, а под городом Смоленском, от которого целым остался после кровавого урагана (по свидетельству матери, побывавшей там) только один почерневший, грозно-величественный, стоящий на высоком холме Смоленский кафедральный собор.
А что, если и Пилатово каким-то дивным корнем связано с именем прокуратора Иудеи (римской провинции) Понтием Пилатом, обрекшим за грехи людские на мучительную казнь более двух тысяч лет назад Бога-сына. Да, быть такого не может! О, чего только быть не может на белом свете. Вон через поле от нашей деревни стоит старинно-русское, с исконно русскими людьми поселение Глебовоское, верхняя часть которого носит сугубо татарское имя «Курмыш». Конечно, татары здесь были, не тысячи лет назад, но все-таки, все-таки…
«Божий дух гуляет, где хочет». Это утверждение евангельское.
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины.
Так писал «старик Державин». И подтверждение сему нахожу я порою, извините за нескромность, в собственной нескладной, грешной, а где-то прямо таки мистической судьбе. Мне 10 лет. Хожу в четвертый класс. Бабушка Варвара Ивановна, 21 ноября ведет меня насильно к обедне в храм Архангела Михаила – архистратига Христова воинства, что находится в пяти километрах от нас в селе Контеево. Потом я, Гена Пискарев, руководствующийся воспитанной во мне лютой самокритичностью, сам про себя напишу разоблачительные стихи в стенгазету.
По улице гуляет
Ветерок-проказник,
Отсталый люд справляет
Религиозный праздник.
Однако, не напишу я о том, как в церкви, дивясь красоте алтаря, очаровавшись ангельским пением женского хора на клиросе, незаметно для всех давил на лбу выскочивший прыщ. После обедни пришли мы в гости к бабушкиной сестре Матрене Ивановне, невестка ее, кареглазая, острая на язык женщина, увидев красное пятно на моем лбу, язвительно молвила: «Вон, как Генка Богу-то молился, аж лоб расшиб». Посмеялись.
Поздно вечером, в потемках возвращались домой. Я, бабушка и мать моя – Мария Михайловна. Спустились в овражек. И не заметили, как со склона его сиганула сзади на нас тройка лошадей, запряженная в «пошовежки», на которых валялись пьяные мужики. Мчащиеся взмыленные лошади разметали по сторонам бабушку, мать, а я, сбитый коренником, оказался под полозьями «пошовежек». Истошные крики матери и бабки не были услышаны развеселой братией. Тройка неслась, не сбавляя ходу, вместе со мной, зажатым под днищем. Я ничего не помнил. Очнулся под Глебовским, на краю дороги, вывалившимся из-под опрокинувшихся санок вместе с хмельными ездоками. Бугристая, избитая колеями, чуть припорошенная первым рыхлым снегом земля. И мать, неведомо откуда получившая силы, чтобы гнаться за разгоряченными лошадьми более двух километров, настигнуть их и перевернуть повозку, откуда я должен бы вывалиться не иначе как разбитым вдребезги. Но я бодро поднялся на ноги, на мне не было ни одной царапины, не случилось, видимо, и сотрясения. Чудо? Скажите, что нет.
Но какой ангел-хранитель, прикрыл меня крылом своим, за что оказал такую милость архистратиг Михаил, в храме которого утром стоял с бабушкой Варей?
Странно, но эту историю я вскоре забыл и вспомнил лишь через 11 лет – 21 ноября. Мы, гвардейцы-таманцы, глубокой ночью возвращались с армейских дивизионных учений в свою воинскую часть. Я вел плавающий танк «ПТ-76», позади башни которого, на прогретой броне трансмиссии, под брезентом дрых безмятежно десант. Каким-то образом мы выскочили на асфальтированную трассу. Движения никакого. И мы рванули по ней. Кстати «ПТ-76» может развивать бешеную скорость – до 60 км в час на пересеченной местности. А тут асфальт. Выскочили на мост – за ним крутой поворот. И вдруг чуть ли не в лоб откуда-то взявшаяся машина. Резко зажимаю фракцион правого поворота – и танк мой, многотонная махина, со скользкого асфальта летит под откос насыпи, проделав боковой переворот, называемый у летчиков иммельманом. Десант, как грибы из лукошка, сыплется на мерзлую землю. Меня инерционная сила отбрасывает с сиденья водителя на аккумуляторные батареи – спасает голову ребристый шлемофон, а тело – упругая меховая куртка. В воздухе с танка слетают гусеницы и, перевернувшись, он падает на дно откоса «разутый», катки глубоко вязнут в земле, что и гасит возможное дальнейшее вращение, даруя тем самым всем нам дальнейшую жизнь.
Это было, вероятно, не только спасение – предупреждение: умерь гордыню, задумайся, уясни, что же ты делаешь, не сообразуясь с великими принципами человекостояния – добра и совести на этой земле. Молодой, горячий, подкованный марксизмом-ленинизмом, разумеется, лично я в ту пору не больно-то размышлял над происходящим, над странными этими случаями. Где мне было знать тогда, что и «случай есть мощнейшее мгновенное проявление божественного проведения».
Это сейчас, когда заново пришлось прочитать Пушкина не по школьной и даже не по университетской программе, кое-что дошло до меня. (Чтобы полностью понять Александра Сергеевича надо быть гением – мысль С. А. Есенина), и я вслед за поэтом-пророком твержу:
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь и горько слезы лью;
Но строк печальных не смываю.
И не смыть. Когда душа просится к Богу, вспоминается и этот случай из детства. После проливных ливней река Кострома, что течет рядом с нашей деревней, чуть ли не выходит из берегов. Я, мечтавший стать моряком, демонстрирую одногодкам, им 7 лет, свою удаль и ловкость – бросаюсь бесшабашно в крутящуюся реку и плыву к противоположному берегу. Достигнув его, поворачиваю обратно. И где-то на середине пути чувствую: плыть дальше нет сил. Кричу, захлебываясь. Одногодки, стремглав, разбегаются по домам. Но откуда-то взялся Леша Петрухин, недавно вернувшийся из военного госпиталя, где залечивал фронтовые раны. Какие, мы не знали, но рваный шрам, пересекающий Лешино лицо ото лба до подбородка, даже нас, ребятишек, приводил в ужас. И вот этот полуживой человек кидается ко мне, барахтающемуся в водовороте, и вытаскивает за волосы на берег.
Он скор умрет – дядя Леша Петрухин, в сельской больнице. Заводил рукояткой трактор ХТЗ, компрессией рукоятку рвануло в обратную сторону и упал механизатор на сырую землю без чувств… Неокрепший организм простыл. И… А, может, простыл он немного раньше? О, Господи, прости меня грешного, «хвалившегося» перед ребятишками деревни, что выплыл я сам (свидетелей-то не было), а Леша Петрухин пришел на реку удить рыбу.
О человек!
Черта начальна Божества…
Откол е происшел? – безвестен.
А сам собою быть не мог.
Это цитата из грандиознейшей оды «Бог», изучаемой на всех философских факультетах мира, кроме наших отечественных. Автор – екатерининский солдат, действительный тайный советник и многих орденов кавалер, выходец из крестьянского сословия, упомянутый выше Гавриил Романович Державин, благословивший, «сходя в гроб», «наше все» – А. С. Пушкина.
Сколько же было в деревеньке моей рядовых сельских тружеников, копающихся вечно в земле, и навозе, великих умов и высоких душ. Но мы, (и я, в частности) племя молодое, незнакомое, говоря словами гения, верили только славе и не понимали, что между нами, «может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствующий ни одною егерскую ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе».
Запоздало, увы, пришло ко мне понимание и признание величия «родового гнезда», о котором, ушедшем, уже в небытие (причины темны и загадочны, как убиение С. А. Есенина, судьба коего, считаю, есть олицетворенная тайна бытия и умирания многострадальной Родины нашей), написал цитированные в первых своих книгах стихи.
Великое мое Пилатово –
Деревня в двадцать пять домов.
От поезда с разъезда пятого
Я вновь бежать к тебе готов,
Учуять дух тепла коровьего,
Увидеть за рекою лес
И липы дедушки Зиновьева,
Что держат свод седых небес,
Как дедко Павел, глаз слезящийся,
В углу иконам бьет поклон.
Над образами нимб светящийся,
Но то не нимб, а шлемофон
Танкиста, заживо горевшего.
Прости, Архангел Михаил:
Твой лик на фото сына грешного
Старик в божнице заменил.
Какое вещее деяние
В крестьянской рубленой избе –
Земных, небесных сил слияние
В страданье, вере и мольбе.
О Русь моя! Тебя оплакивая,
В Москве, сквозь злато куполов
Я зрю великое Пилатово,
Святых и грешных земляков.
Пока вы были, смерды, пахари,
Цвела страна моя, но вот
Не стало вас. Россия ахнула
И покачнулся небосвод.
А я, кого лишь ваша силушка,
Уже последняя, поди,
К верхам из грязи в князи вынесла,
Застыл, и боль горит в груди:
В деревне родной липы спилены.
Потомства не от кого ждать.
И кто ж теперь даст снова силы мне?
И мне свои кому отдать?
И грызет сожаление, совесть, что не смог (не созрел в свое время умом и сердцем) рассказать о судьбах крестьянствующих односельчан, записать великорусский говор, яркий, мудрый, своеобразный, богатый великими смыслами, отливающий необыкновенными оттенками чувств, человеческой красоты.
Ах, если бы была жива та деревня и я бы, не давний с наивной душой мальчишка, а отесанный грубым рубанком жизни мужчина, смог бы встретиться с ней. Я положил бы к ногам ее все, что скопил-приобрел за долгие годы, и что делал, уверен теперь, лишь бы только добиться признания ее и одобрения. Её – и никого больше.
Люди в прошлое влюблены
Зимнее ранее утро. Базарные ряды на площади нашего районного центра Буй-города. Того самого, упомянутого еще А. Н. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: – «Кабак, тюрьма в Буй-городе». В эту тюрьму засадили некогда Савелия-богатыря святорусского за то, что он «немца Фогеля живого закопал». А нынче вот крестьяне из окрестных деревень распродают здесь привезенную с личных подворий снедь: картошку, морковку, лук, свеклу и прочее, прочее. В колхозе денег не платят, а налог государству и страховка исчисляются в денежном выражении. Да и ту же телогрейку, портки и рубашку не купишь за просто так. Стало быть, и толкутся крестьяне-колхозники каждый базарный день, а это четверг и воскресенье, не дома в деревне, а в городе. Нередко и мы, крестьянские дети, составляем компанию родителям своим, стоим за прилавком.
Я, кстати, восьмиклассник, человек уже образованный, знающий, зазываю сейчас горожан на свою сторону (мать побежала до промторга, где выкинули дешевенький ситец), объясняю городским покупателям вдохновенно и увлеченно сколь полезен для сердца, зубов и желудка товар мой – отборный чеснок. В азарте не замечаю, что кто-то, стоя неподалеку, в сторонке, внимательно наблюдает за мной, бойким просвещенным торговцем. Кто-то – школьный учитель истории, Борис Иванович, приехавший в город, чтобы посмотреть в кинотеатре «Луч» новый художественный фильм (когда-то еще дойдет он до нашего глухого края), посетить районную библиотеку, посмотреть журналы, газеты.
– Ну и ну, – не выдерживает школьный историк, подходя к ученику, т. е. ко мне: – ни дать ни взять: Алексашка Меньшиков.
Борис Иванович, до кончиков ногтей городской человек, романтично настроенный, присланный в школу нашу по распределению, видел окружающую сельскую действительность в розовом цвете, но нами был очень любим, любим за открытость, душевность, за умение с юмором, а не с ожесточением смотреть на наши проказы, граничащие порой с хулиганством. Помню, мой одноклассник, Юра Колесников, отвечал на уроке на вопрос, какие-такие жесткие меры предприняли впервые в истории для населения англичане во время Англо-бурской войны? Юра, вообще-то знает, что это было создание каких-то небывалых до селе лагерей, но выговорить замысловатое слово не может, и вместо лагеря концентрационного у него получается концентрический. Все хохочут и учитель вместе со всеми. Утирая слезы, он обращается к Юре:
– Что же мне делать с тобой, Колесников?
– Да посадите его в концентрический лагерь – и вся недолга, – язвительно подсказываю я. Новый взрыв хохота. А учитель? Учитель тоже, похоже, по достоинству оценил предложение-шутку. Ни нотаций не стал читать мне, ни одернул грубо.
Мне вспомнился наш историк, однако не потому, что окрестив когда-то меня Алексашкой Меньшиковым, он как бы предрек судьбу мою, что с непонятной, незримой, космической силой вела замурзанного деревенского мальчишку к высотам государственного управления (последняя должность моя – начальник отдела Администрации Президента России – ведь это не шутка), – я вспомнил Бориса Ивановича как прототипа своего в какой-то мере по характеру и взглядам на захолустную деревню. Я, как это ни странно, смотрел на «селянскую» жизнь с улыбкой, влюблено и романтично, хотя сколько там было всего – грязного, грубого, спорного.
…Ходит по утрам, наряжая на работу колхозников, пьяненький бригадир дядя Паша Виноградов. А пьяненький-то дядя Паша почти всегда. Наверное, глядя на него, разразиться бы надо гневной тирадой, но нет, умиротворенно смотрю я на бригадирскую слабость, вспоминая слова жены его, тетки Лиды:
– Когда мой Паша умрет, его без бальзамирования, сразу можно положить в мавзолей – проспиртован.
Другой фигурант: Вася Коромыслов, напился, свалился в заиленный пруд. Вытащили его, сняли грязную одежду, обрядили во что пришлось: сухие ветощаненькие штаны, в залатанный пиджачишко:
– Иди, иди домой, Вася, жена будет ругаться, скажешь: не пропил, мол, не прогулял, новый костюм приобрел.
Проиленную одежду гуляке завернули в газету, с чем под мышкой и плелся он по деревне под веселыми взглядами соседей, приговаривавших:
– Свой-то костюм бережет Василий, в газетке носит.
А вот другая картина. Мишка Кашин (по прозвищу «Крепкий»), деревенский удалой гармонист, после шальной гулянки в соседнем селе возвращается зеленым лугом домой. На лугу – деревенские гуси. Мишка ловко цапает одного. Открывает крючки на планках гармошки (крючками к планкам крепятся мехи музыкального инструмента), ловко засовывает гуся в ребристую полость. Защелкивает крючки и, пиликая какую-то мелодию, спокойно проходит мимо хозяйки «гусиного стада» в сторону овинов, где муж той же хозяйки, Иван Куков, топит специальные печи для просушки зерна.
– Иван, – окликает его блаженно Мишка, – ставь бутылку, будем гуся жарить.
Спустя некоторое время, Мишка и истопник урчат, как жирные коты, над запеченным гусем. Выпивают, закусывают. Иван похлопывает лихого гармониста по плечу:
– Ох, Мишка, ох, плут.
А вечером дома слышит он стенанья хозяйки: гусь пропал. Тут до Ивана доходит: ведь он его с Мишкой-прохвостом съел. Скормил своего гуся, да еще и бутылку нахалу за это поставил.
Тут вообще-то мне хотелось бы сделать некое отступление – сказать свое слово о дружбе с «зеленым змием» односельчан моих в середине 20 века и жестоком алкоголизме, поставившим на грань вымирания народ наш, теперь. Я не оправдываю тех, кто пил тогда, не ставлю в пример их сегодняшним, потерявшим человеческий облик пленникам «свирепого джина» Мне хочется сказать, что в моей деревне, к примеру, абсолютно не знали до начала сороковых годов горячительных напитков – о самогоне слыхом не слыхивали. Пиво – солодовое, домашнее, темное, очень близкое по качеству и свойствам к средневековой медовухе, да, варили. Делалось оно (хорошо помню дедовскую технологию) так. Сначала проращивалось ячменное зерно. Когда оно набухало, давало росток, входило, что называется, в пору особой жизненной силы, его подсушивали и мололи. Получался солод – основа пивной закваски.
Этот солод укладывали слоями в огромные глиняные горчаги, чем-то напоминающие греческие амфоры или кавказские винные кувшины – только без узкого горла.
Дно горчаг устилали ржаной соломой, которой потом перемежевали и слои солода. Содержимое заливали чистейшей водой, взятой из самого глубокого в деревне колодца. В каждую горчагу заливались, примерно, около двух десятилитровых ведер жидкости. Затем горчаги ставились на ночь на кирпичный «под» протопленной печи. Пиво варилось. Сваренным его поднимали на «желоба» – длинные тесины с продольными углублениями, которые ставились наклонно на деревянные подставки. У горчаг внизу были отверстия, кои затыкались при варке. А после установки емкостей на желоба – их выдергивали, и сваренная густая консистенция, называемая суслом, стекала в подставленный под тот или иной желоб лагун – огромную деревянную бочку, заклепанную снизу доверху. Наверху лагуна находилось небольшое отверстие, через которое в бочку засыпали ягодные дрожжи и головки хмеля. Хмель у нас рос диким образом по берегам реки Тёбзы. Но деревенские пивовары предпочитали хмель выращивать сами на огородах. Помню, почти у каждого хозяина стояли, как воткнутые пики былинных дружинников, высокие шесты, обвиваемые зеленым, с терпким запахом, растением.
Сусло в лагунах бродило, пена «каблуком» рвалось наружу через отверстие наверху.