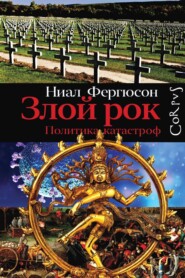скачать книгу бесплатно
Злой рок. Политика катастроф
Ниал Фергюсон
В своей новой книге знаменитый историк Ниал Фергюсон дает обзор самых разных катастроф, случившихся в истории человечества: геологических, геополитических, биологических, технологических. Он рассматривает причины и последствия конкретных бедствий, в том числе пандемии COVID-19, а также в целом то, каким образом люди и общества реагируют на катастрофы и пытаются их предсказать.
Опираясь на несколько научных дисциплин, среди которых экономика, клиодинамика и наука о сетях, Фергюсон пишет не только историю, но и общую теорию катастроф, и показывает, почему наши все более бюрократизированные и сложные системы управления все хуже справляются с ними.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Ниал Фергюсон
Злой рок
Политика катастроф
Niall Ferguson
Doom. The Politics of Catastrophe
* * *
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© 2021, Niall Ferguson All rights reserved
© В. Измайлов, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО «Издательство Аст», 2023
Издательство CORPUS
Введение
И доля горестней моя:
Вся в настоящем жизнь твоя;
А мне и в прошлом вспоминать
Ряд темных лет
И с содроганьем ожидать
Грядущих бед!
Роберт Бёрнс «К полевой мыши…»[1 - Пер. М. Михайлова. Из кн.: Роберт Бёрнс. Стихотворения. М., 1982. (Здесь и далее прим. пер., если не указано иного.)]
Исповедь суперраспространителя
Наверное, никогда еще за всю историю человечества мы не испытывали такой неуверенности в будущем и не были столь несведущи в отношении прошлого. В начале 2020 года, когда из Уханя пришли вести о новом коронавирусе, немногие осознали их значение. Сам я еще 26 января впервые заговорил о том, что возрос риск глобальной пандемии[2 - «Davos Man Is Cooling on Stockholm Girl Greta Thunberg», Sunday Times, January 26, 2020, https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/davos-maniscoolingonstockholm-girl-greta-thunberg-z2sqcx872.]. Когда я написал об этом, меня сочли чудаком (определенно, так думали почти все делегаты на Всемирном экономическом форуме в Давосе, совершенно не видя угрозы). В то время в СМИ (от Fox News до Washington Post) было принято считать, что коронавирус для американцев не страшнее обычной зимней волны гриппа. 2 февраля я писал: «Сейчас самую населенную страну мира охватила эпидемия и вероятность того, что она перерастет в глобальную пандемию, очень высока… Но самое сложное… – это противостоять тому странному фатализму, по воле которого большинство из нас не меняет планы и не носит неудобные маски, даже когда опасный вирус распространяется экспоненциально»[3 - «The Deadliest Virus We Face Is Complacency», Sunday Times, February 2, 2020, https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/the-deadliest-virus-we-face-is-complacency-wsp7xdr7s.]. В ретроспективе эти фразы читаются как завуалированное признание. В январе и феврале я путешествовал как заведенный – как и почти все предыдущие двадцать лет. В январе я совершал перелеты из Лондона в Даллас, из Далласа в Сан-Франциско, оттуда в Гонконг (8 января), Тайбэй (10 января), Сингапур (13 января), Цюрих (19 января), обратно в Сан-Франциско (24 января), а потом – в Форт-Лодердейл (27 января). Пару раз я надевал маску, но через час уже не мог терпеть и снимал. В феврале я летал почти столь же часто, хотя и не так далеко: в Нью-Йорк, Сан-Валли, Бозмен, Вашингтон и Лифорд-Кей. Возможно, вы спросите, что же это за жизнь такая. Порой я в шутку говорил, что круговорот лекций превратил меня в «историка международного масштаба». Только потом я понял, что мог оказаться одним из суперраспространителей, которые из-за своего сверхнасыщенного графика поездок разносили вирус из Азии по всему миру.
В первой половине 2020 года моя еженедельная газетная колонка стала своего рода хроникой эпидемии. Впрочем, я никогда не упоминал о том, что сам проболел почти весь февраль – причем с постоянным мучительным кашлем. (С лекциями я справлялся, налегая на скотч.) «Бойтесь за стариков, – написал я 29 февраля, – смертность у тех, кому за восемьдесят, превышает 14 %, а у тех, кому нет и сорока, она близка к нулю». Я опустил не столь утешительные данные о мужчинах-астматиках за пятьдесят. И оставил за скобками тот факт, что дважды ходил к врачу, который каждый раз говорил мне – как тогда говорили врачи почти по всей Америке, – что доступных тестов на COVID-19 нет. Я знал лишь одно: все это серьезно и происходит не только со мной и с моей семьей.
Те, кто легкомысленно бросает: «Да это не опасней гриппа…», упускают из виду самое главное…
С коронавирусом все неопределенно, ведь болезнь трудно обнаружить на ранних стадиях, когда многие уже инфицированы, но симптомы у них еще не проявились. Мы не можем точно сказать, сколько человек сейчас болеет, поэтому нам неизвестны ни репродуктивное число вируса, ни уровень смертности. И нет ни вакцины, ни лекарства[4 - «Trump May Shrug Off Coronavirus. America May Not», Sunday Times, March 1, 2020, https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/trump-may-shrug-off-coronavirus-america-may-not-bmvw9rqzd.].
В другой статье, опубликованной 8 марта в Wall Street Journal, я писал: «Если в США заболевание распространится так же широко, как в Южной Корее, – с учетом разницы в численности населения, то скоро в стране будет 46 тысяч случаев и более чем 300 смертей. А если уровень смертности в США окажется столь же высоким, как в Италии, смертей будет уже 1200»[5 - «‘Network Effects’ Multiply a Viral Threat», Wall Street Journal, March 8, 2020, https://www.wsj.com/articles/network-effects-multiplyaviral-threat-11583684394.]. На тот момент в Соединенных Штатах насчитывались лишь 541 подтвержденный случай и 22 смерти. Отметку в 46 тысяч случаев мы прошли 24 марта, а в 1200 смертей – 25 марта… всего две недели спустя[6 - Worldometer, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us.]. 15 марта я отметил: «Вчера аэропорт имени Джона Кеннеди полнился людьми, которые, как это происходит испокон веков во время эпидемий, бежали из большого города (и распространяли вирус)… Мы входим в паническую стадию пандемии»[7 - «The First Coronavirus Error Was Keeping Calm», Sunday Times, March 15, 2020, https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/the-first-coronavirus-error-was-keeping-calm-zvj28s0rp.]. В тот день и я, взяв жену и двух младших детей, улетел из Калифорнии в Монтану. Здесь, в Монтане, я до сих пор и нахожусь.
Я мало писал и думал о чем-либо еще в первой половине 2020 года. Почему меня так увлекла эта тема, если моя ключевая компетенция – история финансов? Дело в том, что я очень интересовался тем, какую роль играют болезни в истории человечества, еще с тех пор, как более тридцати лет тому назад, в аспирантуре, изучал эпидемию холеры, поразившую Гамбург в 1892 году. В необычайно подробном исследовании Ричарда Эванса я познакомился с идеей, что смертность, вызванная патогеном, до некоторой степени отражает тот социально-политический строй, который он атакует. Эванс утверждал, что в Гамбурге людей убивал не только холерный вибрион, но и – наравне с ним – их убивала классовая структура, поскольку городские собственники, наделенные властью, не позволяли улучшить устаревшие системы водоснабжения и канализации. Среди бедноты смертность была в тринадцать раз выше, чем среди богачей[8 - Richard J. Evans, Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830–1910 (Oxford: Oxford University Press, 1987).]. Когда я несколько лет спустя проводил исследование для своей книги «Горечь войны», меня поразила статистика, позволявшая предположить, что в 1918 году германская армия потерпела поражение отчасти из-за вспышки заболевания, к которой, возможно, привела «испанка»[9 - Niall Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (New York: Basic Books, 1999), pp. 342f.]. А в книге «Война всего мира» (The War of the World) я еще более подробно рассмотрел историю пандемии 1918–1919 годов и показал, что Первая мировая война закончилась двойной пандемией – не только гриппом, но и такой идеологической заразой, как большевизм[10 - Niall Ferguson, The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West (New York: Penguin Press, 2006), pp. 144f.].
В 2000-х годах я занимался исследованием империй и тоже проводил экскурсы в историю заразных заболеваний. Рассказывая о европейских колонистах в Новом Свете, нельзя умолчать о том, что болезни были призваны «проредить индейцев и освободить место для англичан», как бессердечно выразился Джон Арчдейл, губернатор Каролины в 1690-х годах. (Вторую главу в книге «Империя» я назвал «Белая чума».) А еще меня поразило, сколь много британских солдат, служивших вдали от родины, погибло от тропических болезней. Шанс военного пережить службу в Сьерра-Леоне был крайне низким – умирал каждый второй[11 - Niall Ferguson, Empire: The Rise and Fall of the British World Order and the Lessons for Global Power (New York: Penguin Press, 2006), p. 65.]. В «Цивилизации» я посвятил целую главу тому, какую роль современная медицина сыграла в экспансии Запада, а именно в колонизации и усилении политического влияния. Я показал, что колониальные власти значительно улучшили наши знания о заразных заболеваниях и нашу способность их контролировать. Причем порой их методы были очень жестоки, и я этого не скрывал[12 - Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest (New York: Penguin Press, 2011), p. 175.]. «Великое вырождение» откровенно предупреждало, что мы стали более уязвимы перед «случайными мутациями вирусов наподобие гриппа»[13 - Пер. И. Кригера.][14 - Niall Ferguson, The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die (New York: Penguin Press, 2012), p. 144.], а «Площадь и башня», по сути, рассказывала историю мира, исходя из того, что «быстроту и охват распространения заразы определяют не только сами вирусы, но и характер разносящей их сети»[15 - Пер. Т. Азаркович.][16 - Niall Ferguson, The Square and the Tower: Networks and Power from the Freemasons to Facebook
(New York: Penguin Press, 2012), p. 203.].
Я пишу эти строки в начале сентября 2020 года. Пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Уже подтвердилось примерно 26 миллионов случаев заболевания, и, если судить по данным о серопревалентности по всему миру, это лишь малая часть тех, кто заразился вирусом SARS-CoV-2[17 - SeroTracker, Public Health Agency of Canada, https://serotracker.com/Dashboard.]. Общее число умерших приближается к 900 тысячам человек, и цифра явно занижена, поскольку статистика из ряда крупных стран (в особенности из Ирана и России) не внушает доверия. А жертв все больше, и их количество в целом растет более чем на 6 % в неделю, не говоря уже о числе тех, чье здоровье подорвано навсегда: сколько их – этого еще никто не определил. С каждым днем все вероятнее, что лорд Рис, британский королевский астроном, выиграет пари у Стивена Пинкера, психолога из Гарварда, и «биотерроризм либо биологическая ошибка в течение шести месяцев, считая с 31 декабря 2020 года, в рамках одного события приведут к миллиону жертв»[18 - О точных условиях пари см.: Bet 9, Long Bets Project, http://longbets.org/9/. Рис прежде всего был озабочен опасностью биотерроризма, но добавил «биологическую ошибку», подразумевая под ней «нечто, имеющее тот же эффект, что и террористическая атака, но возникшее скорее не из злого умысла, а по неосторожности». Есть некая двусмысленность в том, имеются ли в виду под словом «жертвы» только случаи со смертельным исходом: «В идеале в число жертв следует включить „людей, нуждающихся в госпитализации“ и не включать косвенные смерти, вызванные патогеном».]. Некоторые эпидемиологи заявляли, что без радикального социального дистанцирования и экономических локдаунов окончательное число жертв могло бы составить от тридцати до сорока миллионов[19 - Patrick G. T. Walker et al., «The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression», MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London, Report 12, March 26, 2020.]. Конечно, оно уже не станет столь высоким – из-за ограничений, наложенных правительствами, а также из-за того, что само общество стало вести себя иначе. Однако те же самые немедикаментозные меры потрясли мировую экономику намного сильнее, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, – а возможно, что и так же серьезно, как Великая депрессия.
Зачем писать историю пандемии сейчас, когда она еще не завершилась? Все просто: моя книга – это не история нашей обескураживающей постмодернистской болезни, – хотя в двух завершающих главах (девятой и десятой) я и попытаюсь очертить абрис такого замысла. Это общая история катастроф, в число которых входят не только эпидемии, но и вообще все виды бедствий: геологические (землетрясения), геополитические (войны), биологические (пандемии), технологические (ядерные аварии). Падения астероидов, извержения вулканов, экстремальные погодные явления, голод, страшные аварии, экономические кризисы, революции, войны и геноцид – здесь вся наша жизнь и очень много смерти. Ведь как нам, ничего не зная о них, верно увидеть беду – хоть свою, хоть любую другую?
Очарование рока
Эта книга исходит из предпосылки, что мы не можем изучать историю катастроф, как природных, так и рукотворных (впрочем, эта дихотомия, как мы еще увидим, мало оправдана), в отрыве от истории экономики, общества, культуры и политики. Крупные бедствия редко бывают вызваны лишь внешними причинами – исключением можно считать разве что падение массивного астероида, которого не случалось уже 66 миллионов лет, или вторжение пришельцев, которого не случалось вообще никогда. Даже самое страшное землетрясение катастрофично лишь настолько, насколько распространилась урбанизация вдоль линии разлома – или вдоль побережья, если за этим землетрясением придет порожденное им цунами. Пандемия складывается из нового патогена и атакованных им социальных сетей. Нам не понять масштаб заражения, изучая только сам вирус, поскольку он заразит ровно столько людей, сколько ему позволят заразить упомянутые сети[20 - Для ознакомления: Ferguson, Square and the Tower.]. В то же время катастрофа срывает покровы с поражаемых ею обществ и государств. Это момент истины, момент откровения: в его свете одни предстают хрупкими, другие – стойкими, третьи – «антихрупкими», способными не только выдержать бедствие, но и благодаря ему окрепнуть[21 - Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder (New York: Random House, 2012).]. У катастроф есть серьезные экономические, культурные и политические последствия, многие из которых парадоксальны.
Все общества живут в неопределенности. Даже древнейшие цивилизации, о которых до нас дошли сведения, прекрасно понимали, сколь уязвим Homo sapiens. С тех пор как род человеческий начал запечатлевать свои мысли в искусстве и литературе, вероятность вымирания – или «конца света» – возросла до угрожающих масштабов. Как мы увидим в первой главе, перспектива апокалипсиса – грандиозного последнего, Судного дня – занимала в христианском богословии центральное место, после того как о нем пророчествовал сам Иисус. Драматическую развязку, о которой повествовало Откровение Иоанна Богослова, пророк Мухаммед внес в ислам. Подобные картины разрушения мы находим и в других вероисповеданиях, даже в тех, которым более свойственна цикличность, – в индуизме и в буддизме, – а кроме того, в скандинавской мифологии. Часто, и временами неосознанно, мы, современные люди, толкуем в эсхатологических терминах смысл пережитых или увиденных бедствий. А приверженцы светских идеологий, особенно марксисты, порой жаждут «мирского» апокалипсиса (в котором капитализм рушится под гнетом своих противоречий) столь же истово, как христиане-евангелисты – Восхищения Церкви. Есть нечто знакомое и в том, с какой страстью радикальные пророки катастрофического изменения климата требуют решительного «покаяния» экономики во избежание конца времен.
Слово doom – рок, фатум, смерть и Страшный суд – впервые встретилось мне в Восточной Африке, когда я был еще мальчишкой: так назывался популярный инсектицид, который в настоящее время порой используется в религиозных целях[22 - «South Africa’s ‘Doom Pastor’ Found Guilty of Assault», BBC News, February 9, 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-43002701.]. Оно восходит к староанглийскому dom, древнесаксонскому dоm и древнескандинавскому dоmr – словам, означающим официальное решение или приговор суда (как правило, неблагоприятные). «Для всех неотвратим судьбы закон»[23 - «All unavoided is the doom of destiny». Пер. А. Радловой. Уильям Шекспир. Ричард III. Акт IV, сцена 4.], – говорит Ричард III. «Иль эту цепь прервет лишь Страшный суд?»[24 - «What, will the line stretch out to th' crack of doom?» Пер. М. Лозинского. Уильям Шекспир. Макбет. Акт IV, сцена 1.] – вопрошает Макбет. Конечно же, мы боимся рока. Но мы им и очарованы – отсюда и обилие литературы о «последних днях человечества» (так иронически назвал Карл Краус свою великую сатирическую драму о Первой мировой войне). Научная фантастика и кинофильмы изображали наш конец бесчисленное множество раз. Смертоносная пандемия – лишь один из многих вариантов того, как в массовой культуре человечество сметается с лица земли. Примечательно, что в дни первых американских локдаунов, вызванных появлением COVID-19, одним из самых популярных фильмов на Netflix стала картина Стивена Содерберга «Заражение» 2011 года, которая повествует о пандемии (впрочем, гораздо более страшной)[25 - Nicole Sperling, «‘Contagion,’ Steven Soderbergh’s 2011 Thriller, Is Climbing up the Charts», New York Times, March 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/03/04/business/media/coronavirus-contagion-movie.html.]. Я сам, словно завороженный, пересматривал «Выживших» от Би-би-си (драматический сериал 1975 года) и читал трилогию Маргарет Этвуд про Беззумного Аддама. Рок притягателен.
И все же нам стоит бояться не конца света – не наступая по расписанию, он неизменно разочаровывает милленариев, – а серьезных бедствий, которые многим из нас доводится пережить. Они могут принимать разные формы. Они невероятно разнятся по масштабу. И даже если их удается предсказать, они влекут смятение особенного рода. Редко когда в литературе находит свое отражение реальная катастрофа, приводящая в оцепенение – и все же убогая. Замечательное исключение – пронизанное цинизмом свидетельство Луи-Фердинанда Селина о вторжении немцев во Францию в 1914 году, ставшее частью его романа «Путешествие на край ночи» (1932). «Когда ты лишен воображения, умереть – невелика штука, – замечает Селин, – когда оно у тебя есть, смерть – это уже лишнее»[26 - Луи-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи / Пер. Ю. Корнеева. М., 1994.][27 - Louis-Ferdinand Cеline, Journey to the End of the Night, trans. Ralph Manheim (New York: New Directions, 1983 [1934]), p. 14.]. Мало кто из писателей сумел так ярко запечатлеть хаос грандиозной катастрофы и абсолютные ужас и растерянность, охватывающие каждого в отдельности. Франция понесла кошмарные потери в начале Первой мировой войны. И все же кажется, что циник Селин, изображая искалеченные души обитателей французского дна (от аванпостов во Французской Экваториальной Африке до парижских окраин), предвещает еще большую беду – которая ждала впереди, в 1940-м.
Летом 1940 года Франция пала. «Странное поражение» – так назвал свою книгу, посвященную этому краху, историк Марк Блок[28 - Marc Bloch, L’еtrange dеfaite: Tеmoignage еcrit en 1940 (Paris: Gallimard, 1997 [1946]).]. Таких странных поражений – бедствий, которые нетрудно было предсказать, но тем не менее сокрушительных – в истории было много. В столкновении с COVID-19 и Америка, и Великобритания, пусть и каждая по-своему, потерпели во многом именно такие поражения. Они воспринимались лишь как колоссальный провал правительств, не сумевших надлежащим образом подготовиться к катастрофе, вероятность которой, как известно, всегда была достаточно высокой. Винить в этом лишь самонадеянных популистов – слишком легко. С точки зрения избыточной смертности в Бельгии дела обстояли так же плохо, если не хуже, хотя там премьер-министром была Софи Вильмес, сторонница прогрессивных взглядов.
Почему некоторые общества и государства реагируют на бедствия намного лучше других? Почему некоторые распадаются, большая часть сохраняет цельность и лишь немногим удается стать сильнее? Почему политика порой приводит к катастрофам? Этим вопросам и посвящена моя книга. И ответы на них совсем не очевидны.
Неопределенность катастрофы
Насколько легче было бы жить, умей мы предсказывать бедствия! Авторы веками пытались доказать, что исторический процесс предсказуем, с помощью кучи разнообразных циклических теорий – религиозных, демографических, поколенческих, денежно-кредитных… Во второй главе я рассмотрю такие теории и задамся вопросом: помогут ли они предвосхитить очередное несчастье – и если не избежать его, то хотя бы ослабить удар? Ответить можно уже сейчас: не особо. Проблема в том, что все, кто верит в подобные теории или в любую иную форму прозрения, не понятную широким массам, неизбежно оказываются в роли Кассандры. Они видят будущее – или думают, будто видят его, – но не могут уверить в этом окружающих. Если так посмотреть, многие катастрофы – это истинные трагедии в античном понимании этого слова. Пророк, предвещающий горе, бессилен убедить хор скептиков. Царь не волен избежать своей участи.
Но есть веская причина, по которой Кассандры не могут никого убедить: они не способны предсказывать точно. Когда именно наступит катастрофа? Как правило, им это неизвестно. Да, некоторые беды – это «предсказуемые неожиданности», подобные «серым носорогам», которые, грозно топоча, несутся прямо на нас[29 - Max H. Bazerman and Michael D. Watkins, Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming, and How to Prevent Them, 2nd ed. (Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing, 2008); Michele Wucker, The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore (New York: Macmillan, 2016).]. Впрочем, иногда в тот миг, когда «серые носороги» наносят удар, они преображаются в «черных лебедей» – в поразительные события, которых «никто не мог и предвидеть». Отчасти так происходит потому, что многие катастрофы, причисленные к «черным лебедям» – пандемии, землетрясения, войны, финансовые кризисы, – подчиняются не нормальному распределению вероятностей, который наш мозг легко воспринимает, а степенным законам. Нет средних пандемий и средних землетрясений – есть несколько грандиозных и великое множество малых. И нет никакого надежного способа предсказать, когда придет большая беда[30 - Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (London: Penguin/Allen Lane, 2007).]. В обычные времена мы с семьей живем у разлома Сан-Андреас. Мы знаем, что «нечто серьезное» может случиться в любой момент. Но насколько серьезным будет это «нечто»? И когда именно все произойдет? Этого никто сказать не в силах. То же относится и к рукотворным бедствиям – к тем же войнам и революциям (которые чаще пагубны, нежели благотворны). Это справедливо и для финансовых кризисов: они приводят к меньшему числу погибших, но их последствия часто оказываются столь же разрушительными. Как покажет третья глава, у истории есть одна определяющая черта: в ней намного больше «черных лебедей» – не говоря уже о «драконьих королях» (событиях столь масштабных, что они выходят даже за рамки распределения по степенному закону[31 - Didier Sornette, «Dragon Kings, Black Swans and the Prediction of Crises», Swiss Finance Institute Research Paper Series No. 09–36 (2009), доступно в источнике: SSRN, http://ssrn.com/abstract=1470006.]), – чем можно было ожидать в мире, подвластном нормальному распределению. Все такие события лежат не в области рассчитанного риска, а в сфере неопределенности. Более того, мир, который мы построили, со временем становится все более сложной системой, подверженной стохастическому поведению, и в нем возрастает доля нелинейных отношений и распределений с толстым хвостом. Такое бедствие, как пандемия, – это не простое событие, оторванное от других. Оно неизбежно ведет к другим видам катастроф – экономическим, социальным, политическим. Могут возникнуть, и часто возникают, волны или цепные реакции бедствий, и мы видим это тем чаще, чем сильнее мир объединяется в единую сеть (четвертая глава).
К сожалению, наш мозг не эволюционировал так, чтобы наделить нас способностью понимать мир «черных лебедей», «драконьих королей», сложности и хаоса, – или хотя бы смиряться с ним. Было бы замечательно, если бы развитие науки освободило нас хотя бы от толики иррациональности, свойственной древнему и средневековому мирам. («Мы согрешили. Это суд Божий».) Но пусть религиозные верования и ослабли, развились другие формы магического мышления. «Эта катастрофа разоблачает заговор» – так теперь все чаще говорят, услышав о неблагоприятном событии. А еще есть смутное почтение к «науке», которое при ближайшем рассмотрении оказывается новой разновидностью предрассудка. «У нас есть модель, мы понимаем этот риск» – подобные слова не раз звучали перед недавними катастрофами, как будто наука – это сделанные на скорую руку компьютерные симуляции с готовыми переменными. У нас есть фундаментальный труд оксфордского историка Кита Томаса «Религия и упадок магии» (Religion and the Decline of Magic), а в пятой главе я делаю предположение, что нам стоит готовиться к написанию книги «Наука и возрождение магии»[32 - Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England (London: Weidenfeld & Nicolson, 1971).].
Справляться с бедствиями становится еще сложнее потому, что наши политические системы все чаще выдвигают на ведущие роли тех, кто особенно склонен игнорировать проблемы, упомянутые в предыдущих абзацах. Это не суперпрогнозисты, а высокорисковые предсказатели. Психология военной некомпетентности была предметом прекрасного исследования[33 - Norman Dixon, On the Psychology of Military Incompetence (London: Pimlico, 1994).]. Меньше пишут о психологии политической некомпетентности, которой посвящена шестая глава. Как известно, политики редко обращаются за советом к экспертам (разве что ими движет какой-нибудь скрытый мотив)[34 - Christina Boswell, The Political Uses of Expert Knowledge: Immigration Policy and Social Research (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).]. А еще экспертов довольно легко отодвигают на второй план, если их знания неудобны. Но можно ли определить общие формы политической несостоятельности, когда речь идет о подготовке к бедствиям и о смягчении их последствий? На ум приходят пять категорий:
1. Неумение учиться у истории.
2. Отсутствие воображения.
3. Склонность бороться с прошедшей войной или кризисом.
4. Недооценка угрозы.
5. Прокрастинация, или вечное ожидание определенности.
«Проблема догадок», которую сформулировал в контексте ядерной стратегии Генри Киссинджер, – яркий пример того, насколько асимметричны решения, принятые в состоянии неопределенности, особенно в условиях демократии:
У каждого политического лидера есть выбор: затратить на оценку как можно меньше сил – или, напротив, как можно больше. Если он выберет первое, то со временем может оказаться, что он был неправ, и ему придется дорого за это заплатить. Действуя на основе догадки, он никогда не сумеет доказать, что его усилия были необходимы, – но может уберечь себя от многих печалей в будущем… Если он начнет действовать рано, то никогда не узнает, было ли это необходимо. А если он решит ждать, то ему или повезет – или нет. Это ужасная дилемма[35 - Henry A. Kissinger, «Decision Making in a Nuclear World» (1963), Henry A. Kissinger papers, Part II, Series I, Yale University Library, mssa.ms.1981/ref25093.].
Правителей редко вознаграждают за то, что они сделали во избежание бедствий, – ведь отсутствие таковых редко становится поводом для торжества и благодарности. Чаще их винят за неудобства, доставленные теми профилактическими мерами, которые они рекомендовали. О контрасте между стилем руководства в наше время и в дни Дуайта Эйзенхауэра повествует седьмая глава.
И все же не во всех провалах виновны первые лица. Часто слабое звено располагается ниже по иерархической лестнице. Как доказал физик Ричард Фейнман, изучив обстоятельства гибели космического челнока «Челленджер» (январь 1986 года), роковую ошибку совершил вовсе не Белый дом, который будто бы торопился совместить успешный запуск с обращением президента. Ее допустили бюрократы среднего звена из NASA, которые настаивали на том, что риск катастрофы составляет 1 к 100 000, хотя их же собственные инженеры определили этот риск как 1 к 100[36 - Richard Feynman, «What Do You Care What Other People Think?» Further Adventures of a Curious Character (New York: W. W. Norton, 1988), pp. 179–184.]. Подобные случаи, как и промахи высшего звена, характеризуют многие современные бедствия. Как сказал после урагана «Катрина» конгрессмен-республиканец Том Дэвис, существует «огромная пропасть между разработкой политики и ее внедрением»[37 - «House Approves Creation of Committee to Investigate Katrina Response», Voice of America, 31.10.2009, https://www.voanews.com/archive/house-approves-creation-committee-investigate-katrina-response.]. Такие разрывы свойственны бедствиям любого масштаба, от кораблекрушения до краха империи, и это позволяет предположить наличие «фрактальной геометрии катастрофы» (ей посвящена восьмая глава).
То, как ведут себя в момент катастрофы обычные люди – и в децентрализованных сетях, и в толпах без руководителя, – порой оказывается даже важнее, чем решения лидеров или приказы правительств. Почему некоторые воспринимают новую угрозу рационально, иные – пассивно, как сторонние наблюдатели, а третьи отвечают на нее отрицанием или протестом? И почему природная катастрофа может породить политическую, при которой разгневанные люди становятся революционной толпой – и переходят от разума к безумию? Полагаю, ответ заключен в изменчивой структуре самого общества. Напрямую катастрофа затрагивает меньшинство. Остальные узнают о ней через какую-нибудь информационную сеть. Даже в XVII веке зарождающаяся массовая пресса могла сеять смятение в человеческих душах – как выяснил Даниэль Дефо, когда изучал лондонскую чуму 1665 года. А интернет увеличил потенциал для распространения неверных сведений и дезинформации настолько, что можно говорить о двух эпидемиях, поразивших мир в 2020 году: одну вызвал биологический вирус, а другую – еще более заразные заблуждения и ложь, распространявшиеся в Сети со скоростью вируса. Проблема могла бы стать не столь серьезной, сумей мы провести осмысленные реформы законов и постановлений, регулирующих деятельность крупных технологических компаний. Но несмотря на самые широкие свидетельства того, что с 2016 года статус-кво несостоятелен, почти ничего не было сделано.
История медицины: это еще не конец
Мы склонны представлять эпидемии и пандемии в узком смысле – как выражение воздействия определенных патогенов на население. Однако силу воздействия пандемии определяет не только сам патоген, но и социальные сети и государственные возможности, с которыми он сталкивается. Коэффициент летальности при заражении инфекцией не вписан в РНК коронавируса. Он варьируется от места к месту, от времени ко времени, по причинам как генетическим, так и политическим и социальным.
На протяжении большей части истории незнание медицинской науки делало людей уязвимыми перед новыми штаммами заболеваний. И чем более крупным и цельным в торговом отношении было общество, тем выше оказывалась вероятность того, что оно пострадает от пандемии, – как выяснили себе в ущерб греки и римляне. Именно существование трансъевразийских торговых путей позволило чумной палочке в XIV веке убить так много европейцев. А европейская экспансия за океан, начавшись примерно полтора столетия спустя, привела к Колумбову обмену: патогены, завезенные европейцами, почти полностью уничтожили коренное население Америки; затем сами европейцы вернулись из Нового Света с сифилисом, а когда на Карибские острова и в обе Америки пошли корабли с рабами-африканцами, там появились малярия и желтая лихорадка. К концу XIX века европейские империи могли похвалиться тем, что близки к победе над заразными заболеваниями. Но им не удалось совладать с кризисами в здравоохранении (скажем, вернулась бубонная чума), и это вызвало недовольство за океаном у местных националистов, а вспышки холеры в портах и в промышленных городах «раззадорили» европейских прогрессистов и социал-демократов. Еще в конце 1950-х годов пандемии считались характерной особенностью мирового порядка.
Конец XX столетия казался временем прогресса. Советский Союз и США, замышляя биологическую войну друг против друга, все же совместно изничтожали оспу и по отдельности сдерживали малярию. С 1950-х до 1980-х годов во многих сферах здравоохранения, от вакцинации до санитарии, удалось добиться огромных успехов. Более того, к последним годам века порой казалось, что угроза пандемий отступила. Когда рандомизированные контролируемые клинические испытания стали стандартом для медицинских исследований, мы наконец достигли – или думали, что достигли, – «конца истории медицины»[38 - J. R. Hampton, «The End of Medical History?» Journal of the Royal College of Physicians of London 32, no. 4 (1998), pp. 366–375.]. Конечно же, это было не так. Начиная с пандемии ВИЧ/СПИДа, новые вирусы показали, сколь уязвим мир, который все теснее связывают сети.
Мы получали бесчисленные предупреждения о том, что самыми крупными и очевидными опасностями, грозящими человечеству, являются новый патоген и глобальная пандемия, которую этот патоген может вызвать. И тем не менее в январе 2020 года, когда «серый носорог» превратился в «черного лебедя», в большинстве стран никто не предпринял быстрых и эффективных действий. В Китае однопартийное государство отреагировало на вспышку нового коронавируса почти так же, как некогда Советский Союз – на чернобыльскую ядерную катастрофу: в ход пошла ложь. В Соединенных Штатах президент-популист, которому эхом вторили кабельные новости, сперва отмахнулся от опасности, будто от обычного сезонного гриппа, а потом вносил хаос в работу своей администрации. Но настоящим позором стал жуткий провал правительственных агентств, единственная задача которых – защищать американцев от биологических угроз. В Великобритании был похожий сценарий. Устремления европейских федералистов (и представления евроскептиков о европейской сверхдержаве) в один миг оказались пустышкой: все страны, спасая себя, закрывали границы и старались не расставаться с дефицитным медицинским оборудованием. Разговоры о европейском «сообществе единой судьбы» (Schicksalsgemeinschaft) возобновились только после того, как стало ясно, что Германию не ждет участь Италии. Бедствие показало нам не только вирулентность вируса, но и недостатки каждой из упомянутых политических единиц. Тот же самый вирус был намного менее губителен в Южной Корее и на Тайване – если говорить о восточноазиатских демократиях, достойно принявших вызов. В девятой главе я пытаюсь понять, почему все так случилось, и размышляю о том, насколько пагубную роль сыграла «инфодемия» фейковых новостей и теорий заговора, которая развивалась параллельно с биологической пандемией. В десятой главе я рассматриваю экономические последствия пандемии и предлагаю объяснение, почему перед лицом сильнейшего макроэкономического потрясения со времен Великой депрессии финансовые рынки вели себя – на первый взгляд – столь парадоксально. И, наконец, в одиннадцатой главе обсуждаются геополитические последствия пандемии – и ставится под сомнение широко распространенное мнение, согласно которому COVID-19 принесет Китаю наибольшую выгоду, а Соединенным Штатам – наибольший ущерб.
Путь Илона
Так какие же универсальные уроки даст нам погружение в историю катастроф?
Во-первых, предсказать большую часть бедствий, скорее всего, невозможно. Для самых масштабных катастроф в истории – от землетрясений до войн и финансовых кризисов – характерны либо случайные распределения, либо распределения по степенному закону, а они относятся к области неопределенности, а не риска.
Во-вторых, у катастроф слишком много форм, чтобы мы могли снижать их риск при помощи стандартных подходов. Как только мы сосредоточили все силы на угрозе салафитского джихадизма – нас постиг финансовый кризис, вызванный субстандартными ипотеками. Стоило нам вспомнить, что экономические потрясения часто отражаются на политике и ведут к росту популизма, – как тут же сеет панику новый коронавирус. Что будет дальше? Мы не можем этого знать. Для каждой потенциальной беды есть хотя бы одна Кассандра, чье предсказание похоже на правду. И не на все пророчества нам стоит обращать внимание. Возможно, в последние годы мы позволили одной опасности – изменению климата – отвлечь нас от всех остальных. В январе, когда глобальная пандемия уже началась и рейсы с зараженными людьми летели из Уханя во все части света, на Всемирном экономическом форуме говорили почти только об экологической ответственности, социальной справедливости и корпоративном управлении (ESG) – с акцентом на экологию. Как станет ясно, опасности, вызванные повышением глобальной температуры, кажутся мне реальными и потенциально катастрофическими. Но изменение климата не должно быть одной-единственной угрозой, к которой мы готовимся. И если бы мы сумели признать, что этих угроз много (и что определить, как часто мы будем с ними сталкиваться, крайне сложно), то нам, возможно, удалось бы более гибко реагировать на любые беды. Не случайно в число государств, которые в 2020 году лучше всех справились с коронавирусом, вошли три – Тайвань, Южная Корея и (первоначально) Израиль, – живущие в постоянной опасности, ведь им, помимо прочего, грозит и гибель под ударами страны-соседа.
В-третьих, не все бедствия имеют глобальный характер. Впрочем, чем более сетевым становится человеческое общество, тем выше потенциал для заражения – и не только биологического. Сетевое общество должно обладать продуманными прерывателями цепи, которые в случае кризиса могут без промедления уменьшить связность сети и при этом не раздробить общество на «атомы» и не парализовать его полностью. Более того, любое бедствие либо усиливается, либо ослабляется информационными потоками. В 2020 году именно дезинформация – те же вирусные новости о фальшивых методах терапии – ухудшила ситуацию с COVID-19 во многих местах. А эффективное управление сведениями о зараженных и об их контактах помогло сдержать пандемию в тех немногих странах, власти которых повели себя грамотно.
В-четвертых, COVID-19, как показано в девятой главе, вскрыл серьезные недостатки в системе здравоохранения в США и в целом ряде других государств. Был соблазн – и ему поддались многие журналисты – возложить всю вину за избыточную смертность, вызванную пандемией, на президента. Подобную ошибку – склонность приписывать отдельным предводителям чрезмерное влияние на ход истории – высмеивал еще Лев Толстой в «Войне и мире». На самом деле в 2020-м много кто оплошал: и помощник министра по вопросам готовности и реагирования в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, и губернатор штата Нью-Йорк, и мэр Нью-Йорка, и традиционные и социальные медиа… На бумаге США были готовы к пандемии лучше, чем любая другая страна в мире, и имели намного больше ресурсов. Почти так же хорошо – на бумаге – было готово британское правительство. Но в январе, когда по сообщениям из Китая стало ясно, что новый коронавирус, теперь известный как SARS-CoV-2, и заразен, и смертоносен, по обе стороны Атлантики допустили катастрофическое бездействие. Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, игравший ключевую роль в кампании по искоренению оспы, на протяжении многих лет повторял формулу для противодействия любому инфекционному заболеванию: «Раннее обнаружение, ранее реагирование»[39 - Larry Brilliant, «My Wish: Help Me Stop Pandemics», February 2006, TED video, 25:38, https://www.ted.com/talks/larry_brilliant_my_wish_help_me_stop_pandemics.]. В Вашингтоне и Лондоне все сделали с точностью до наоборот. А если бы это оказалась угроза иного рода? Неужели и тогда реакция была бы столь же медленной и неэффективной? Если проблемы, выявленные пандемией, характерны не только для бюрократии в сфере здравоохранения, но и для всего административного аппарата, то, вероятно, все будет именно так.
И, наконец, в истории заметна такая тенденция: во времена социальных потрясений рационально реагировать очень непросто – этому мешают религиозные или квазирелигиозные импульсы. В прошлом все любили поразмышлять о том, как опасна пандемия, – но, по правде говоря, мы скорее развлекались (вспомните «Заражение»), чем оценивали реальную угрозу. Даже сейчас, когда в жизнь претворяются иные научно-фантастические сценарии – как глобальное потепление и климатическая нестабильность, так и подъем китайского полицейского государства (назовем лишь два), – нам очень трудно реагировать на это логично и последовательно. Летом 2020 года миллионы американцев вышли на улицы примерно трех сотен городов, чтобы во всеуслышание (и порой не без насилия) выразить свой протест против жестокости полиции и системного расизма. Но как бы ни шокировал инцидент, ставший катализатором этих волнений, то, что они проходили на фоне пандемии очень заразного респираторного заболевания, несло в себе огромную опасность. А элементарная мера предосторожности – ношение маски – стала символом партийной принадлежности. В некоторых частях страны к покупке оружия относились лучше, чем к ношению маски, – и это указывало на возможную катастрофу не только в здравоохранении, но и в сфере общественного порядка.
COVID-19 – не последнее бедствие, с которым мы встретимся. Это лишь самая недавняя беда – после волны исламского терроризма, после мирового финансового кризиса, после череды государственных провалов и всплесков неконтролируемой миграции и после так называемой демократической рецессии. Пожалуй, нас вряд ли ждет теперь катастрофа, связанная с изменением климата: мы редко сталкиваемся с тем бедствием, которого ожидаем, – чаще случается нечто, о чем большинство из нас даже не думало. Скажем, нас поразит штамм устойчивой к антибиотикам бубонной чумы. Или русские совместно с китайцами устроят массированную кибератаку на США и их союзников. А может, некий прорыв в нанотехнологии или генной инженерии ненамеренно повлечет катастрофические последствия[40 - См. в целом: Nick Bostrom and Milan Сirkoviс, eds., Global Ca tastrophic Risks (Oxford: Oxford University Press, 2008).]. Или искусственный интеллект воплотит зловещие предчувствия Илона Маска, превзойдет человечество и низведет его до уровня «биологического загрузчика для цифрового сверхразума». Примечательно, что в 2020 году Маск отмахнулся от угрозы COVID-19. («Вся эта паника из-за коронавируса – чушь собачья», – гласил его твит от 6 марта.) Кроме того, Маск утверждал, что «люди совладают с экологической нестабильностью» и что даже саму смерть – угрозу существованию каждого отдельного человека – можно победить при помощи редактирования ДНК и хранения неврологических данных. И все же в целом он пессимистично высказывается о будущем нашей цивилизации на Земле:
Цивилизация существует… примерно семь тысяч лет. И если считать с того момента, когда появились хоть какие-то надписи, хоть какие-то зафиксированные символы – помимо наскальной живописи, – то это крошечный промежуток, учитывая, что возраст Вселенной – 13,8 миллиарда лет… И это были… своего рода американские горки на фронте цивилизации… Есть определенная вероятность – и ее не преуменьшить, – что с нами что-то случится, несмотря на наши лучшие намерения и вопреки всему, что мы пытаемся делать. В какой-то момент или внешняя сила, или внутренняя невынужденная ошибка приведут к уничтожению нашей цивилизации – или же к такому ее ослаблению, после которого она уже не сможет распространиться на другую планету[41 - Ricki Harris, «Elon Musk: Humanity Is a Kind of ‘Biological Boot Loader’ for AI», Wired, September 1, 2019, https://www.wired.com/story/elon-musk-humanity-biological-boot-loaderai/.].
Для Маска, по сути, выбор стоит между «сингулярностью» – то есть неостановимым прогрессом искусственного интеллекта – и концом цивилизации. («Вот две возможности».) Поэтому он и считает, вразрез с мнением большинства, что «…самая большая проблема, с которой столкнется мир в ближайшие двадцать лет – это демографический коллапс». Вот почему он и предлагает колонизировать Марс.
Мы просто не можем знать, какие из всех мыслимых сценариев грядущего, более подробно представленных в заключении к этой книге, воплотятся в жизнь и когда именно это случится. Все, что мы можем, – это учиться у истории, как строить социальные и политические структуры, которые будут хотя бы стойкими, а в лучшем случае – антихрупкими. Нам нужно понять, как устоять и не рухнуть в пропасть самобичевания – что так часто происходит с обществами, застигнутыми катастрофой, – и как не поддаться сладким голосам сирен, все поющим о том, что только тоталитарный режим или мировое правительство сумеют защитить и наш несчастный вид, и наш непрочный мир.
Глава 1
О смысле смерти
Но смерть, свирепый страж, хватает быстро…
Гамлет[42 - Пер. М. Лозинского. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт V, сцена 2.]
Мы все обречены
«Мы обречены». Эта фраза, которую сделал популярной рядовой Джеймс Фрейзер – «каледонская» Кассандра из британского телевизионного ситкома «Папашина армия», – была одной из дежурных острот моей юности. Шутка заключалась в том, чтобы произнести эти слова в как можно более неподходящий момент – например, когда убежало молоко или когда вы не успели на последний автобус до дома. В одном из эпизодов («Незваные гости») есть чудная сцена, когда Фрейзер – его играл великий Джон Лори – рассказывает сослуживцам-ополченцам душераздирающую историю о проклятии. В юности, говорит Фрейзер, его корабль бросил якорь у маленького острова близ берегов Самоа. На этом острове – по словам его друга Джетро – в руинах древнего храма стоял идол, украшенный огромным рубином «величиной с утиное яйцо». Они отправились за рубином, прорубая себе путь сквозь густые джунгли. Но как только Джетро коснулся камня, перед друзьями предстал колдун – и проклял Джетро, прокричав: «СМЕРТЬ! РУБИН ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ СМЕРТЬ! СМЕ-Е-ЕРТЬ!»
РЯДОВОЙ ПАЙК: И проклятие сбылось, мистер Фрейзер?
РЯДОВОЙ ФРЕЙЗЕР: О да, сынок, сбылось. Он умер… в прошлом году. Восемьдесят шесть ему стукнуло.
Пусть даже мы и не прокляты – мы все обречены. К 2056 году (самое позднее) я буду уже мертв. Мне пятьдесят шесть лет и два месяца, и если верить Администрации социального обеспечения, то проживу я, считая в среднем, еще 26,2 года и доберусь таким образом до отметки в восемьдесят два – на четыре года уступив другу Фрейзера, проклятому колдуном. Национальная статистическая служба Великобритании даже более щедра: она сулит человеку моих лет еще два лишних года – а кроме того, дает один шанс к четырем, что я доживу до девяносто двух. Решив проверить, нельзя ли улучшить эти показатели, я обратился к калькулятору долголетия «Доживи до ста» (Living to 100), который дает ответ на основе подробнейшей анкеты об образе жизни и семейном анамнезе. Калькулятор «Доживи до ста» сообщил мне, что до ста я, наверное, не доживу – но вот мои шансы прожить еще тридцать шесть лет оказались даже выше среднего[43 - Retirement & Survivors Benefits: Life Expectancy Calculator, Social Security Administration, https://www.ssa.gov/cgi-bin/longevity.cgi; Life Expectancy Calculator, Office for National Statistics (UK), https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/articles/lifeexpectancycalculator/20190607; Living to 100 Life Expectancy Calculator, https://www.livingto100.com/calculator/age.]. Конечно, все было бы иначе, подхвати я COVID-19 – болезнь с уровнем летальности в 1–2 % для моей возрастной группы (а для меня, наверное, и того больше, если учесть мою легкую астму).
Безусловно, умереть в пятьдесят шесть было бы весьма печально. И все же это был бы хороший результат по меркам большинства из 107 миллиардов людей, которые жили на Земле за всю историю человечества. В Великобритании, где я родился, ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла уровня в пятьдесят шесть лет лишь в 1920 году – сто лет тому назад. С 1543 по 1863 год средний показатель составлял чуть меньше сорока лет – и Великобритания еще отличалась своим долголетием. А если взглянуть на мир в целом, то ожидаемая продолжительность жизни была меньше тридцати лет до 1900 года, когда она увеличилась до тридцати двух лет, и ниже пятидесяти до 1960 года. В 1911 году индийцы в среднем жили всего двадцать три года. В России в 1920 году средний показатель достиг низшей точки и составил двадцать лет. В мире за последний век он неуклонно повышался и за период с 1913 по 2006 год возрос почти вдвое – но часто случаются и провалы. В Сомали он сейчас составляет пятьдесят шесть лет: это мой возраст[44 - Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, and Hannah Ritchie, «Life Expectancy», Our World in Data, 2013, last revised October 2019, https://ourworldindata.org/life-expectancy.]. Ожидаемая продолжительность жизни там по-прежнему низка отчасти потому, что очень высока младенческая и детская смертность. Примерно 12,2 % детей, рожденных в Сомали, умирают прежде, чем им исполнится пять; 2,5 % погибают в возрасте от пяти до четырнадцати[45 - «Mortality Rate, Under5 (Per 1,000 Live Births)», World Bank Group, https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT; «Mortality Rate Age 514», UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, https://childmortality.org/data/Somalia.].
Когда я пытаюсь взглянуть со стороны на свой опыт человеческого существования, мне вспоминается Джон Донн (1572–1631) – поэт времен короля Якова I, доживший до пятидесяти девяти. За шестнадцать лет Анна Донн родила мужу двенадцать детей. Трое – Фрэнсис, Николас и Мэри – не дожили и до десяти. Сама Анна умерла вскоре после рождения двенадцатого ребенка – мертворожденного. Когда же умерла Люси, любимая дочь поэта, а сам он едва не последовал за нею в могилу, Донн написал «Обращения к Господу в час нужды и бедствий» (1624), содержащие величайшие проповеди сочувствия умершим: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе»[46 - Джон Донн. По ком звонит колокол / Пер. А. Нестерова. М., 2004. Медитация XVII.].
Неаполитанский художник Сальватор Роза написал, возможно, наиболее впечатляющую картину в жанре memento mori – «Хрупкость человеческой жизни» (L’umana fragilit?). Живописца заставила взяться за кисть вспышка бубонной чумы, поразившая его родной Неаполь в 1655 году. Чума забрала жизнь его маленького сына Розальво, а также брата, сестры, ее мужа и пятерых их детей. Гадко усмехаясь, крылатый скелет, выступающий из тьмы позади Лукреции – возлюбленной Розы, – хочет забрать их сына как раз тогда, когда ребенок делает первую попытку что-то написать. Чувства художника, убитого горем, навеки отражены в восьми латинских словах, которые ребенок, повинуясь воле скелета, выводит на холсте:
Conceptio culpa
Nasci pena
Labor vita
Necesse mori
«Зачатие – грех, рождение – боль, жизнь – тяжкий труд, смерть – неизбежна». Я никогда не забуду, как меня поразили эти слова, когда я прочел их, впервые посетив Музей Фицуильяма в Кембридже. В них воплотился человеческий удел, с которого сорвали все покровы, обнажив безрадостную суть. По общему мнению, Сальватор Роза был веселым и беззаботным; он писал сатиры, а также пьесы для комедии дель арте и сам играл в спектаклях. Однако примерно в то время, когда умер его сын, Роза написал другу: «На сей раз небеса нанесли мне удар, явив, сколь бесполезны все человеческие средства, и боль моя слабее всего, когда я пишу тебе о своих горьких рыданиях»[47 - Salvator Rosa, 1615–1673, L’Umana Fragilita («Хрупкость человеческой жизни»), ок. 1656, Музей Фицуильяма, Кембридж, https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/collection_pages/italy_pages/PD_53_1958/TXT_SE-PD_53_1958.html.]. Сам он умер от водянки в пятьдесят восемь.
И в Средние века, и в начале Нового времени смерть в мире была настолько повсеместна, что нам трудно это представить. Как утверждал в труде «Человек перед лицом смерти» Филипп Арьес, смерть была «приручена» бытием, подобно браку и даже рождению детей. Она была социальным обрядом перехода, который люди делили с семьей и обществом, – и за которым следовали похороны, траурные ритуалы и привычные утешения для понесших утрату. Но с XVII века отношение к смерти изменилось. Пусть даже причины смертности стали яснее, она все сильней приводила в смятение, и на Западе начали устанавливать определенную дистанцию между живыми и мертвыми. Викторианцы чрезмерно романтизировали смерть и делали ее сентиментальной, создавая в литературе «прекрасные смерти», все меньше и меньше походившие на реальные, а XX век перешел к отрицанию «конца жизни». Умирание превращалось во все более одинокое, антиобщественное, почти невидимое действо. Появился, как выразился Арьес, «совершенно новый тип умирания»: агонию переместили в больницы и хосписы, а миг конца предусмотрительно скрыли за ширмой[48 - Philippe Aries, The Hour of Our Death, trans. Helen Weaver (New York: Alfred A. Knopf, 1981).]. Американцы не любят слова «умирать». Люди «уходят». Ивлин Во жестоко высмеял такое отношение к смерти в книге «Незабвенная» (1948), вдохновленной несчастливым пребыванием в Голливуде.
Впрочем, у англичан все лишь немногим лучше. В «Смысле жизни по Монти Пайтону» смерть – это одна огромная бестактность. Она является в живописный английский загородный дом в облике Мрачного жнеца (в черную мантию облачился Джон Клиз) и застает три пары за званым ужином:
СМЕРТЬ: Я смерть.
ДЕББИ: Удивительно! Мы как раз говорили о смерти всего пять минут назад…
СМЕРТЬ: Молчать! За вами я.
АНЖЕЛА: Вы имеете в виду, что…
СМЕРТЬ: Я забираю вас. Такова моя цель. Я смерть.
ДЖЕФФРИ: Довольно мрачное завершение вечера.
ДЕББИ: Могу задать вопрос?
СМЕРТЬ: Какой?
ДЕББИ: Как так вышло, что мы умерли все сразу?
СМЕРТЬ (после долгого молчания, указывая пальцем на сервировочную тарелку): Лососевый мусс.
ДЖЕФФРИ: Как? Дорогая, это ведь не консервы?
АНЖЕЛА: О, мне ужасно, ужасно неловко!