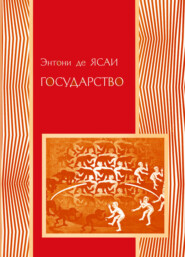скачать книгу бесплатно
Государство
Энтони де Ясаи
Политическая наука (Социум)
Энтони де Ясаи – один из самых оригинальных политических философов современной Европы. В данной книге развивается теория политической динамики государства. В отличие от большинства распространенных политико-философских концепций де Ясаи рассматривает государство не как пассивный инструмент, служащий интересам общества в целом, класса или социальной группы и т. д., а как активно действующий субъект, преследующий собственные интересы. Такая трактовка аналогична подходу экономистов к изучению производственной фирмы, однако в отличие от последней государство стремится максимизировать не прибыль, а объем властных полномочий и использовать последние для достижения собственных конечных целей, каковы бы они ни были. Главным инструментом государства при этом является завоевание поддержки тех или иных групп подданных путем перераспределения в их пользу богатства, отбираемого у других. Как считает автор, внутренняя логика развития государства со временем неизбежно приводит к тому, что оно приобретает тоталитарные черты, причем независимо от субъективных качеств и намерений конкретных правителей.
2-е издание, электронное.
Энтони де Ясаи
Государство
© 1998 by Liberty Fund, Inc.
© АНО «ИРИСЭН», 2008
От издателя
Политическую серию издательства ИРИСЭН продолжает книга, принадлежащая перу Энтони де Ясаи, одного из самых оригинальных политических философов современной Европы. В своих работах он успешно соединяет, с одной стороны, философский подход, свойственный аналитической философии, а с другой – последовательную приверженность политической традиции классического либерализма.
Э. де Ясаи родился в Венгрии в 1926 г., учился в Секешфехерваре и Будапеште, где получил образование в сфере сельского хозяйства. После Второй мировой войны работал независимым журналистом, однако в 1948 г. был вынужден эмигрировать из страны. С середины 50-х годов и до 1962 г. он работал экономистом-исследователем, а затем посвятил себя банковскому делу, живя и работая во Франции. С 1979 г. Э. де Ясаи занимается главным образом исследованиями в сфере экономической теории и политической философии. Его перу принадлежат пять книг и многочисленные статьи в научных и иных изданиях.
Работа «Государство», увидевшая свет в 1985 г., стала первой книгой Э. де Ясаи. В ней развивается теория политической динамики государства. В отличие от авторов большинства распространенных политико-философских концепций Э. де Ясаи рассматривает государство не как пассивный инструмент, служащий интересам общества в целом, или класса, или социальной группы и т. п., а как активно действующий субъект, преследующий собственные интересы. Такая трактовка аналогична подходу экономистов к изучению производственной фирмы, однако в отличие от последней государство стремится максимизировать не прибыль, а объем дискреционных властных полномочий, и использовать их для достижения собственных целей, каковы бы они ни были. Главным инструментом государства при этом является завоевание поддержки тех или иных групп подданных путем перераспределения в их пользу богатства, отбираемого у других. Как показано в книге Э. де Ясаи, внутренняя логика развития государства со временем неизбежно приводит к тому, что оно приобретает тоталитарные черты, причем независимо от субъективных качеств и намерений конкретных правителей. И это относится не только к авторитарным, но и к демократическим государствам современного типа, в которых, как показывает практика, проявляются ярко выраженные тенденции к социальному патернализму и расширению правительственного контроля над различными аспектами жизни граждан.
Книга Э. де Ясаи «Государство» – не работа по эмпирической политологии, а философское (или, говоря его собственными словами, «спекулятивное») исследование собственной логики, присущей государству и его отношениям с подданными. Попутно автор анализирует иные политико-философские теории, оказывающие большое влияние на современную политическую философию, причем оригинальность его подхода позволяет взглянуть на них под новым углом зрения. В то же время политические предпочтения самого Э. де Ясаи – классический либерализм, или либертарианство, – хотя и очевидны для читателя, не используются в аргументации, которая, таким образом, носит чисто описательный, позитивный характер.
По своему жанру представляемая вниманию русскоязычного читателя работа является научно-философской монографией. И хотя в принципе для ее понимания не требуется специальных знаний, все же будет весьма полезно знакомство с основными понятиями экономический теории. Она представляет большой интерес для всех, кто преподает или изучает политическую философию, политологию, социологию, экономическую теорию и смежные дисциплины.
Кроме непосредственного содержания, творчество Э. де Ясаи представляет интерес и как образчик европейской политической философии, развивающейся в рамках аналитической традиции. Все это послужило Редакционному совету серии основанием для приятия решения об издании книги «Государство» на русском языке.
Валентин ЗАВАДНИКОВ
Председатель редакционного совета
Февраль 2008 г.
Предисловие
Эта книга опирается на политическую философию, экономику и историю, но достаточно слабо, чтобы оставаться доступной для образованного читателя, которому она в основном и предназначена. Ее центральная тема – то, каким образом государство и общество взаимодействуют между собой и в результате не оправдывают надежд друг друга и приводят друг друга в жалкое состояние, – может затронуть достаточно широкий круг людей из числа как тех, кто управляет, так и тех, кем управляют. Большинство аргументов достаточно ясны, чтобы не требовать для своего изложения той строгости и того технического аппарата, выдержать которые, а уж тем более получить от них удовольствие сможет, скорее всего, только ученая аудитория.
В силу самой по себе обширности темы и моего несколько необычного подхода к ней специалисты сочтут, что во многих местах аргументация требует развития, уточнения или опровержения. Все это к лучшему, потому что даже если бы я и хотел, то не смог бы скрыть того, что моей целью не было ни сказать решающее слово, ни добиться максимально широкого согласия.
И читатель, и я обязаны И. М. Д. Литтлу за пристальное изучение большей части рукописи этой книги. Не его вина, что я упорствовал в некоторых своих ошибках.
Палюэль
Сен-Маритим
Франция
1997 год
От автора
«Государство» – это книга о внутренней природе политической власти, постоянной при меняющихся обстоятельствах, определяющей путь, по которому развиваются формы правления, а не определяемой этими формами.
Логика использования политической власти такова же, как и логика выбора в любой другой сфере деятельности. У рациональных существ есть цели, которых они стремятся достичь, и они применяют имеющиеся средства таким образом, который максимизирует достижение этих целей. Государство обладает особым средством – властью над поведением своих подданных, которая, будучи осуществляемой определенным образом, воспринимается как легитимная. Какими бы ни были его цели – заслуживающими морального одобрения или нет, благоприятными для подданных или нет, – государство может полностью достичь большего числа целей, если у него больше власти, а не меньше. В парадигме рационального выбора, которая лежит в основе более дисциплинированной части общественных наук, потребитель максимизирует «удовлетворение», предприятие максимизирует «прибыль», а государство максимизирует «власть».
То, что государству приписывается наличие рационального мышления и целей, которые оно пытается максимизировать, вызвало определенное удивление, критику и даже непонимание с момента первого издания «Государства». Этот подход было трудно согласовать с более традиционными представлениями о том, что власть правителя держится на доверии, что современное правительство является агентом победившей коалиции в обществе, что кучка профессиональных политиков обслуживает конкретные интересы в обмен на деньги, развлечение и славу. В нем не приписывается никакой роли общественному договору и не остается места для общего блага. И самое главное: государство, паутина институтов, рассматривается в данном подходе так, как если бы оно было человеком, обладающим разумом.
Однако подобное рассуждение приводит к «модели», своего рода схематической истории, способность которой объяснять и прогнозировать сложные тенденции, прослеживая воздействие простых и постоянно действующих причин, вероятно, может оправдать разрыв с традиционной теорией.
Книга предсказывает, что путем неумолимого расширения коллективной сферы за счет частной государство – «рабочая лошадка» всегда стремится стать государством – «тоталитарным властителем». За годы, прошедшие с момента первого появления этой книги, мы стали свидетелями громкого провала одной такой попытки – крушения социалистических режимов в России и ее сателлитах. Сложно сказать, что именно опровергается этим крахом. Должна ли такая попытка всегда заканчиваться подобной неудачей? Я не вижу для этого убедительных оснований в той или иной форме. Такая попытка экспансии также не обязательно должна проходить весь путь до того момента, когда начинаются разрушение и атрофия общественных добродетелей. Но можем ли мы все же надеяться, что предупрежден значит вооружен?
Май 1997 года
Введение
Что бы вы делали, если бы вы были государством?
Как ни странно, политическая теория, по крайней мере начиная с Макиавелли, практически перестала задавать этот вопрос. Большое внимание в ней уделялось тому, что отдельный индивид, класс или общество в целом может получить от государства, а также легитимности власти государства и правам, сохраняющимся у его подданных. Она исследовала подчинение, которым государству обязаны потребители его услуг, то, как они участвуют в его функционировании, возмещение, которого могут требовать жертвы возможных сбоев. Это жизненно важные проблемы; с течением времени и по мере роста государства относительно гражданского общества они становятся все более важными. Но достаточно ли рассматривать их только с точки зрения подданного, его нужд, желаний, возможностей и обязанностей? Не станет ли наше понимание полнее, если мы посмотрим на них с точки зрения государства?
Данная книга представляет собой попытку проделать именно это. Несмотря на риск смешения институтов и индивидов и трудности перехода от личности правителя к его правительству как институту, государство здесь рассматривается как если бы оно было реальной сущностью, имело волю и было способно принимать обоснованные решения о средствах для достижения своих целей. Тем самым в книге предпринимается попытка объяснить действия государства по отношению к нам в терминах того, каких действий можно было бы ожидать от него в различных исторических ситуациях, если бы оно рационально преследовало цели, которые предположительно у него имеются.
Молодой Маркс считал, что государство «находится в противоположности» к гражданскому обществу и «преодолевает» его. Он говорил о «мирском расколе между политическим государством и гражданским обществом» и утверждал, что, «когда политическое государство насильственно появляется на свет из недр гражданского общества… государство может и должно дойти до упразднения религии, до уничтожения религии. Но оно может прийти к этому лишь тем путем, каким оно приходит к упразднению частной собственности, к установлению максимума на цены, к конфискации, к прогрессивному обложению, тем путем, каким оно приходит к уничтожению жизней, к гильотине»[1 - Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 1. С. 391, 393.]. В отдельных пассажах других работ (особенно в «Святом семействе» и «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта») он продолжал представлять государство как самостоятельную сущность, которая идет своим путем, но не дал объяснений тому, почему это должно привести к «преодолению», «конфискации», «противоречию», почему автономное государство является антагонистом общества.
По мере продвижения к построению своей системы Маркс присоединился к основному корпусу политической теории, общей чертой которого было отношение к государству как к инструменту. Тем самым для зрелого Маркса и еще более явно для Энгельса, Ленина и воодушевляемых ими представителей социалистической мысли государство превратилось в орудие, подчиненное интересам правящего класса и обеспечивающее его господство.
Для несоциалистической теоретической традиции государство также представляет собой инструмент, поставленный на службу пользователю. Оно считается в целом благотворным и помогает другим достигать их целей. Форма этого инструмента, решаемые им задачи и круг потребителей могут различаться, но инструментальный характер государства является общим для основных направлений современной политической мысли. Для Гоббса оно сохраняет мир, для Локка – защищает естественное право на свободу и собственность, для Руссо – реализует всеобщую волю, для Бентама и Милля – является движущей силой совершенствования общественного устройства. Для сегодняшних либералов оно преодолевает неспособность частных интересов к самопроизвольной кооперации, заставляя их производить коллективно предпочитаемые объемы таких общественных благ, как порядок, оборона, чистый воздух, мощеные улицы и всеобщее образование. Если исходить из более широкого определения общественных благ, то принуждение позволяет обществу достигать справедливости в распределении благ или даже полного равенства.
Несомненно, существуют и менее идеалистические варианты инструменталистского подхода. Для школы «нерыночного выбора» или «общественного выбора» взаимодействие актов индивидуального выбора через посредство государства влечет за собой перепроизводство общественных благ. По этой и другим причинам оно не дает добиться предпочитаемых исходов[2 - По словам одного из основателей этой школы, экономика благосостояния посвящена провалам рынка, а теория общественного выбора – провалам государства (James M. Buchanan, The Limits of Liberty, 1975, ch. 10 [Бьюкенен Дж. М. Сочинения // М.: Таурус Альфа, 1997. С. 426–427]). Отметим, однако, что некоторые сторонники теории общественного выбора принимают иную линию, о чем говорится ниже в главе 4, прим. 38.]. Данная школа изучает неповоротливость орудия, каковым является государство, и его потенциальную способность навредить обществу, пытающемуся им воспользоваться. Тем не менее государство – это инструмент, хоть и несовершенный.
Но что такое дефекты, ошибки в конструкции, врожденные недостатки? И чем они отличаются от внутренней последовательности? Действительно ли республика Платона вырождается на пути от демократии к деспотии? Или же она преобразуется в соответствии с собственными целями?
Первый шаг к адекватному пониманию государства – представить себе ситуацию без государства. Следуя Руссо, мы без каких-либо на то оснований отождествляем естественное состояние с тем, в котором находились дикие и, возможно, не слишком сообразительные охотники на заре истории. Для нас стало условным рефлексом считать его некой ранней, примитивной стадией цивилизации, более высокая степень которой требует образования государства и сама является необходимым условием для этого. С эмпирической точки зрения так и могло быть, но с точки зрения логики это вовсе не следует из единственного необходимого условия естественного состояния, заключающегося в том, что в этом состоянии участники не отказываются от своего суверенитета. Ни у кого нет монополии на применение силы, все вооружены. И это условие не обязательно противоречит какой бы то ни было ступени цивилизации, будь то отсталой или развитой.
Национальные государства находятся в естественном состоянии и не выказывают склонности совместно передать свой суверенитет сверхгосударству. При этом, вопреки тому, что обычно принимают за мнение Гоббса, большинству из них, как правило, удается избегать войн. Они даже сотрудничают в условиях вооруженного мира, причем особенно смело и с наиболее впечатляющими результатами – в сфере международной торговли, инвестиций и кредитования, несмотря на наличие суверенного риска. Теория общественного договора предсказывает, что в этих сферах межгосударственных отношений будут царить международный разбой, невыполнение обязательств, конфискации и политика, направленная на разорение соседей, а контракты будут просто бесполезными клочками бумаги. На деле, несмотря на отсутствие сверхгосударства, обеспечивающего выполнение контрактов безотносительно к национальным юрисдикциям, международное сотрудничество не разрушается. Более того, имеется определенное движение в обратном направлении. Международные отношения ставят под сомнение стандартную точку зрения, согласно которой люди в естественном состоянии – это облаченные в звериные шкуры близорукие простаки, которые колотят друг друга по голове дубинками. Напротив, есть определенные основания утверждать, что с развитием цивилизации естественное состояние становится более жизнеспособным. Страх перед более совершенным вооружением может оказаться более сильным стимулом к тому, чтобы воздерживаться от развязывания войн, и способом спасения людей от «беспросветной, жестокой и короткой жизни», чем были такие исторические сверхдержавы, как Римская, Каролингская или Британская империи, хотя, наверное, об этом еще рано говорить.
О жизнеспособности естественного состояния применительно к людям и группам людей судить труднее, чем применительно к странам. Цивилизованные люди долгое время являлись подданными государств, так что у нас нет возможности наблюдать, как бы они кооперировались в естественном состоянии. Поэтому мы не можем даже попытаться провести эмпирическое сравнение положения дел в условиях отсутствия государства и его наличия. Станут ли соблюдаться контракты в отсутствие принуждающего субъекта последней инстанции, обладающего монополией на применение силы? Обычно считается, что в интересах каждого индивида, чтобы все остальные держали свое слово, а он мог бы свободно нарушать свое, и поэтому социальная кооперация не может осуществляться на добровольной основе. В терминах теории принятия решений корректно построенная «дилемма заключенного» не может иметь кооперативного решения, которое не навязывалось бы участникам извне. Однако недавние результаты применения математики и психологии к общественным наукам говорят нам о том, что если люди неоднократно сталкиваются с подобными дилеммами, то это заключение не обязательно верно. Люди учатся на результатах, и ожидаемые результаты подталкивают их к спонтанной кооперации. Любое рассуждение о том, что если государство должно вынуждать людей кооперироваться, то они не сделали бы этого без принуждения, является, конечно, non sequitur[3 - Не следует (лат). Термин, обозначающий логическую ошибку, когда вывод умозаключения не следует из его посылок. – Прим. науч. ред.].
С другой стороны, чем дольше людей заставляли кооперироваться, тем менее вероятно, что они сохранили способность к спонтанной кооперации, если она вообще когда-либо у них была. «Те, кто могут, делают», но обратное «те, кто делают, могут» не менее справедливо, поскольку мы обучаемся через действие. Люди, вынужденные полагаться на государство, не обучатся искусству быть самостоятельными и не приобретут привычки к гражданскому действию. Одно из самых знаменитых прозрений Токвиля (хотя у него были и более тонкие умозаключения) на самом деле относилось к различию между, с одной стороны, английским и американским «правительством» [government], которое оставляло пространство и потребность для низовых инициатив и, не слишком вмешиваясь в жизнь людей, побуждало их самих заниматься собственными делами, и, с другой стороны, французской «администрацией» [administration], которой не было свойственно ни то, ни другое. Влияние государства на формирование обычаев, зависимость ценностей и предпочтений от тех самых политических структур, которые, как считается, им порождены, является лейтмотивом, постоянно повторяющимся в моих рассуждениях.
Другой постоянно возникающей темой является запутанный характер причинно-следственных связей в общественных отношениях. Действия государства могут достигать или не достигать задуманного эффекта, а их ближайшие проявления ничего не гарантируют относительно окончательных результатов. Однако почти всегда они имеют другие эффекты, которые могут быть более важными и долгосрочными. Вдобавок эти непреднамеренные последствия могут быть определенно нежелательными, непредвиденными и, по сути дела, зачастую непредсказуемыми. Именно это придает жутковатый оттенок уютной точке зрения, согласно которой политика – это плюралистическая векторная геометрия, а гражданское общество управляет само собой и контролирует государство, которое представляет собой просто машину для регистрации и исполнения «общественного выбора».
Содержание данной книги разбито на пять глав, охватывающих логический (хотя и не обязательно соответствующий реальному времени) путь государства от одной крайности, в которой его цели не конкурируют с целями его подданных, к другой, в которой ему принадлежит большая часть их собственности и свобод.
Глава 1 «Капиталистическое государство» начинается с обсуждения той роли, которую насилие, подчинение и предпочтения играют при зарождении государства. Затем в ней выводится характерная схема государства, которое, если бы оно существовало в реальности, не находилось бы в конфликте с гражданским обществом. Я называю его «капиталистическим», чтобы подчеркнуть определяющий характер его отношения к собственности и контрактам. В таком государстве концепция юридически действительного титула собственности предполагает, что нашедший никому не принадлежащий предмет становится его владельцем. Такое государство не вмешивается в контракты людей ради их же блага (что также исключает возможность навязывания всеохватного, всестороннего общественного договора, направленного на преодоление «проблемы безбилетника» [free-rider] – соблазна попользоваться бесплатно тем, за что платят другие). Оно не позволяет себе сострадания и симпатии, которую оно могло бы питать к своим менее удачливым подданным, заставляя более удачливых оказывать им помощь. Точно так же оно является государством без политики [policy-less], минимальным государством (раздел «Контуры минимального государства»).
Для государства иметь одновременно собственную волю и желание минимизировать себя выглядит как аномалия, внутреннее противоречие. Для того чтобы такое желание было рациональным, цели государства должны лежать вне политики и быть недостижимыми методами государственного управления. Цель последнего, таким образом, сводится лишь к борьбе с не-минимальными соперниками (т. е. к предотвращению революции). Такого государства, конечно, никогда в истории не было, хотя его стиль и обертоны слабо проглядывают в одном или двух государствах XVIII–XIX вв.
«Политический гедонист», рассматривающий государство как источник благоприятного баланса при вычислении соотношения между помощью и помехами с его стороны, должен логически стремиться к более чем минимальному государству и изобрел бы его, если бы его не существовало[4 - Термин «политический гедонист» был сформулирован великим Лео Штраусом для обозначения подданного Левиафана, обладающего собственной волей.]. Политический гедонизм индивида лежит в основе потребности в более всеохватной и менее вариативной схеме кооперации, чем мешанина контрактов, возникающая в результате добровольных переговоров (раздел «Изобретение государства: общественный договор»). Для гипотетического правящего класса политический гедонизм требует машины, обеспечивающей господство (раздел «Изобретение государства: инструмент классового господства»). Оба варианта политического гедонизма предполагают некоторую доверчивость в том, что касается риска, связанного с разоружением себя ради вооружения государства. Они также подразумевают веру в инструментальный характер государства, созданного для служения целям других и не имеющего своих собственных целей. Однако в любом обществе, где отсутствует полное единогласие и существует плюрализм интересов, государство, сколь угодно сговорчивое, не может преследовать иные цели, нежели свои собственные. То, как оно разрешает конфликты, и тот вес, который оно придает целям других, и есть способ достижения им собственных целей (раздел «Замыкание контура с помощью “ложного сознания”»).
Вопросы о том, является ли политический гедонизм осмысленным, благоразумным и рациональным, меняет ли наличие государства наше положение в лучшую или худшую сторону, совпадает ли выбор государства относительно производства тех или иных благ в его интересах с тем, каков был бы наш выбор, снова рассматриваются в главе 2 в их связи с реформированием, социальными улучшениями и полезностью, а в главе 3 – в контексте правила «один человек – один голос», эгалитаризма (и как средства, и как цели) и распределительной справедливости.
В то время как насилие и предпочтения стоят у истоков государства соответственно в историческом и логическом аспектах, политического подчинения оно добивается путем обращения к старой триаде – подавление, легитимность, согласие, – которая является предметом первого раздела главы 2. Легитимность обеспечивает подчинение независимо от возможной награды или страха перед наказанием. Государство не может увеличить свою легитимность по своему усмотрению, кроме как по прошествии очень большого промежутка времени. Чтобы обеспечить подчинение, у него остаются лишь различные комбинации подавления и согласия (хотя оно, конечно, будет использовать ту степень легитимности, которой обладает). Согласия в небольшой части общества – например, среди охранников в лагере – может быть достаточно для того, чтобы подавить остальных. Большая часть выгод достанется меньшинству, достигшему согласия, а репрессии тонким слоем будут распределены среди многочисленного большинства. Если государство добивается подчинения в большей степени за счет согласия, то соотношение будет обратным.
По мотивам, которые в каждый конкретный момент кажутся верными, хотя со временем могут показаться необоснованными или глупыми, репрессивное государство со временем обычно начинает привлекать на свою сторону тех, кого оно подавляло, и активнее опираться на согласие (раздел «Принимая стороны»). В этом процессе сочетаются шаги, направленные на расширение политической демократии, и стремление к благу с мерами, вызывающими раскол и антагонизм: государство пытается получить поддержку больших групп общества, предлагая им значительное вознаграждение, отбираемое у других, возможно, более узких, но все же значительных групп. Побочным продуктом этого процесса создания групп выигравших и проигравших является то, что государственный аппарат становится больше и изощреннее.
Мне кажется почти неоспоримым то, что нормативная составляющая любой господствующей идеологии совпадает с интересами государства, а не правящего класса, как предполагает марксистская теория. Иными словами, в широком смысле господствующая идеология говорит государству то, что оно хочет услышать, но, что еще важнее, – то, что оно хочет донести до своих подданных. Идеологическая «надстройка» не нагромождается на «базис» интересов (как обычно считается), на деле они поддерживают друг друга. В обществе может вообще не быть правящего класса, но государство и господствующая идеология будут процветать и совместно развиваться. Эта точка зрения объясняет то внимание, которое в книге посвящено утилитаризму (разделы «Лицензия на починку» и «Выявленные предпочтения правительств»), оказывающему крайне мощное, но в наше время в основном подсознательное влияние на политическую мысль прошлого и настоящего. Утилитаристские действия по «исправлению» чего-либо, оценка изменений институтов по их ожидаемым последствиям и сравнение полезностей разных индивидов, благодаря которому государство может вычесть ущерб одних из выгод других и получить в сумме больший уровень счастья, придают действиям государства моральное содержание. Доктрина, рекомендующая подобные операции, представляет собой прекрасную идеологию для активистского государства. Она создает моральное основание для политики государства, когда оно по своему усмотрению выбирает, кого облагодетельствовать. Однако даже если этот вопрос решается не произвольным образом, а в ходе электоральной конкуренции, то сравнение полезностей разных индивидов все равно неявно присутствует в утверждениях государства о том, что его действия правильны или справедливы (или и то и другое одновременно), а не просто необходимы для сохранения власти.
Провозглашение социальной справедливости в качестве цели и этического оправдания соблазнительной политики на первый взгляд представляет собой отход от утилитаризма. Однако фундаментальная преемственность между этими двумя критериями для оценки политики обусловлена тем, что оба они зависят от межличностных сравнений. В одном случае сравниваются полезности, а в другом – заслуги. Любое из сравнений дает оправдание для отмены добровольных контрактов. В обоих случаях роль «благожелательного наблюдателя», «внимательного взгляда», который проводит обоснованное и авторитетное сравнение, естественным образом достается государству. Присвоение этой роли – такое же громадное завоевание, как и производная возможность выбрать среди подданных государства один класс, расу, возрастную группу, регион, сферу занятости и т. п., чтобы благоприятствовать соответствующей группе за счет остальных. Однако самостоятельность в выборе того, кому благоприятствовать и за чей счет, которой государство пользуется для создания базы поддержки реформ и перераспределения, практически неизбежно сохраняется лишь на короткий срок. В главе 4 излагаются причины того, почему она имеет тенденцию исчезать по мере нарастания политической конкуренции и привыкания общества к определенной схеме перераспределения.
Полностью развившееся государство перераспределения, по велению которого «неимущий стал законодателем для имущего»[5 - Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 1. С. 390.] и которое со временем непредвиденным образом преобразует характер и структуру общества, имеет свой доктринальный аналог, идеологическую пару. Развитие ни одного из них невозможно до конца понять без другого. В главе 3 «Демократические ценности» рассматривается либеральная идеология, которая доминирует, когда государство, все больше зависящее от согласия общества и вынужденное конкурировать за него, поглощает людей, служа их идеалам.
Соглашаясь на наступление демократии и, конечно, содействуя ей как средству для перехода от репрессивного правления к правлению по согласию, государство обрекает себя на соблюдение определенных процедур наделения властными полномочиями (например, правило «один человек – один голос», правление большинства). Процедуры таковы, что государство в поисках поддержки должно просто подсчитывать голоса. Его политика, грубо говоря, должна вести к тому, чтобы выигравших было больше, чем проигравших, вместо того чтобы, например, благоприятствовать тем, кто больше этого заслуживает, больше нравится государству, обладает большим влиянием или удовлетворяет более тонкому критерию. Добиваться того, чтобы выигравших было больше, чем проигравших, всегда привлекательнее, приговаривая к роли проигравших некоторое количество богатых, чем такое же количество бедных. Однако это правило всего лишь удобно, но не более того. Оно может не завоевать одобрения тех, кто находится в стороне, кто не рассчитывает что-то получить от его применения. Некоторые из них (включая многих последовательных утилитаристов) предпочтут правило, требующее «создавать больше выигрыша, а не больше выигравших», и забудут о подсчете голосов. Другие захотят дополнить правило оговоркой «с учетом естественных прав» или же «при условии отсутствия посягательств на свободу». Любое из этих условий является достаточно жестким, чтобы полностью затормозить любые демократические меры.
Соответственно, для либеральной идеологии очень полезно построение одной или, для верности, нескольких систем аргументации в пользу того, что демократические политические меры действительно создают демократические ценности, т. е. что политическая целесообразность является достаточно надежным руководством к хорошей жизни и к достижению одобряемых всеми конечных целей.
Я рассматриваю четыре подобные системы аргументации. Первая, наиболее выдающимися защитниками которой были Эджуорт (безупречно) и Пигу (более сомнительно), направлена на доказательство сильного утверждения о том, что выравнивание доходов ведет к максимизации полезности. Мой контраргумент (раздел «От равенства к полезности») заключается в том, что если вообще имеет смысл складывать полезности разных индивидов и максимизировать сумму, то разумнее утверждать, что на самом деле к максимизации полезности ведет любое устоявшееся, освященное временем распределение доходов, равномерное или неравномерное. (А если и есть доводы в пользу выравнивания, то сфера их применимости ограничена новыми богатыми или новыми бедными.)
Более модную, хотя и менее влиятельную аргументацию построил Джон Ролз, который рекомендует модифицированный, умеренный вариант эгалитаризма как соответствующий принципам справедливости. По нескольким причинам я оспариваю принципы, которые он выводит из предусмотрительного интереса людей, ведущих переговоры о распределении, ничего не зная ни о самих себе, ни, следовательно, о каких-либо различиях между собой. Я оспариваю утверждение о зависимости социальной кооперации не от условий, которые участники устанавливают в рамках двусторонних отношений, осуществляя реальную кооперацию, а от пересмотра этих условий, с тем чтобы они соответствовали принципам, договоренность о которых достигается отдельно, в специально созданном для этой цели «исходном положении», характеризуемом незнанием. Я также сомневаюсь в том, что принципы справедливости надо выводить из демократии, а не наоборот (раздел «Как справедливость отменяет контракты»). В разделе «Эгалитаризм как предусмотрительность» я оспариваю утверждения о предусмотрительном характере определенного вида эгалитаризма и о той роли, которую риск и вероятность играют в том, чтобы побудить к нему людей, движимых собственными интересами. По ходу дела я отвергаю успокоительный взгляд Ролза, который считает процесс перераспределения безболезненным и не связанным с издержками, а государство – автоматом, выдающим «общественные решения», когда мы загружаем в него наши желания.
Вместо того чтобы утверждать – на мой взгляд, безуспешно, – что известное равенство в политике и экономике порождает конечные, неоспоримые ценности (такие как полезность или справедливость), либеральная идеология иногда применяет смелое упрощение и просто возводит само равенство в ранг высшей ценности, которая почитается сама по себе, поскольку человеку это свойственно.
Мой главный контраргумент (раздел «Любовь к симметрии»), который находит неожиданную поддержку у Маркса в «Критике Готской программы» и в бесценной проговорке Энгельса, заключается в том, что, когда мы думаем, что выбираем равенство, на самом деле мы нарушаем одно равенство ради другого. Любовь к равенству может с равным успехом быть или не быть свойственна человеческой природе, но любовь к конкретной форме равенства в предпочтении ее другой (при условии что они не могут действовать одновременно) аналогична любым другим предпочтениям и потому не может служить универсальным моральным аргументом.
В чем-то аналогичные аргументы можно использовать против утверждения о том, что демократическая политика хороша тем, что, уравнивая состояния, она уменьшает страдания людей от созерцания успеха соседей (раздел «Зависть»). Очень немногие из бесчисленных видов неравенства, вызывающих негодование людей, поддаются уравниванию, даже если атака на различия столь же прямолинейна, как культурная революция Мао Цзэдуна. Бесполезно заставлять всех есть, одеваться и работать одинаково, если в любви одному по-прежнему везет больше, чем другому. Источником зависти является завистливый характер, а не некоторый небольшой набор поддающихся исправлению видов неравенства из бесчисленного их множества. Зависть не исчезнет, если все замки будут сожжены, привилегии заменены личными достоинствами, а все дети отправлены в одинаковые школы.
Стимулы и препятствия, необходимость оставаться у власти перед лицом конкуренции за согласие и сам характер общества, согласия которого необходимо добиться, должны привести государство к принятию подходящей системы политических мер по изъятию собственности и свободы у одних и передаче их другим. Однако не будет ли эта система, какой бы она ни была, обречена остаться гипотетической, собственность и свобода – нетронутыми, если конституция запретит государству притрагиваться к ним или по крайней мере будет содержать фиксированные пределы, в рамках которых ему это позволено? Такая система мер должна быть согласована с конституционным ограничением демократической политики, и поэтому глава 4 «Перераспределение» начинается с некоторых соображений по поводу фиксированных конституций. Утверждается, что явные конституционные ограничения могут определенно быть полезными для государства в качестве средства выстраивания доверия, но они вряд ли сохранятся неизменными, если не будут совпадать с существующим в обществе балансом интересов. Предполагаемая выгода от соответствующей поправки является стимулом для создания достаточно большой коалиции, необходимой для ее принятия (хотя этого условия недостаточно для внесения изменений в конституцию).
Рассмотрение техники получения поддержки большинства в условиях демократии начинается в разделе «Покупка согласия» с сильно упрощенного абстрактного случая. Если люди отличаются друг от друга только суммой имеющихся денег и если они голосуют за такую программу перераспределения, при которой они получают наибольший выигрыш (или несут наименьшие потери), предлагаемые государством и оппозицией альтернативные программы будут очень близки друг к другу (или одна из них будет чуть менее неблагоприятной для богатых, чем другая). Под влиянием конкуренции за власть все, что может быть безопасно отобрано у будущих проигравших, должно быть отдано будущим выигравшим, не оставляя государству «свободных средств» для самостоятельного распоряжения. Как следствие, его власть над ресурсами подданных полностью тратится на его же собственное воспроизводство, т. е. на то, чтобы просто оставаться у власти.
Менее абстрактная версия (раздел «Перераспределение, вызывающее зависимость»), в которой люди и их интересы различаются в бесконечном числе аспектов, а общество, где должна быть получена преобладающая поддержка, не является атомистическим, но содержит промежуточные групповые структуры между человеком и обществом, дает более запутанные, но едва ли менее безрадостные для государства результаты. Выигрыш от перераспределения формирует привычки как на индивидуальном, так и на групповом уровне, а его сокращение легко провоцирует «абстинентный синдром». Если в естественном состоянии интеграция людей в сплоченные группы интересов сдерживается «проблемой безбилетника» (потенциальной или реальной), то возникновение государства как источника перераспределительных выгод допускает и провоцирует неограниченное формирование групп для извлечения этих выгод. Это верно в той степени, в какой государственно-ориентированные группы интересов устойчивы к наличию среди своих членов «безбилетников», присутствие которых в рыночно-ориентированных группах просто разрушило бы их.
У каждой группы интересов, в свою очередь, есть стимул действовать как «безбилетник» по отношению к остальному обществу, а государство при этом является силой, допускающей это без серьезного сопротивления. Нет оснований ожидать, что корпоративистский идеал создания очень больших групп (все работники, все работодатели, все врачи, все хозяева магазинов) для того, чтобы они договаривались с государством и друг с другом, заметно изменит этот исход. Таким образом, со временем паттерн перераспределения превратится в безумную смесь юридических лазеек и асимметричных льгот не по классической разграничительной линии «богатые – бедные» или «бедные – средний класс», а по линии отраслей, профессиональных групп, регионов или вообще неизвестно чего. Наконец, эволюция всей системы будет все больше выходить из-под общего контроля государства.
В разделе «Повышение цен» предполагается, что групповая структура общества, которую поддерживает перераспределение, порождающее зависимость, придает каждой группе способность сопротивляться любому сокращению своей доли в распределении или компенсировать эти потери. Одним из симптомов impasse[6 - Тупик (франц.). – Прим. перев.], в который это заводит, является эндемическая инфляция. С этим же связаны и жалобы государства на то, что общество становится неуправляемым, неспособным «отдавать», начинает отказываться приносить какие бы то ни было жертвы, которые могут потребоваться для адаптации к трудным временам или просто случайным шокам.
Общественно-политическая ситуация, по большей части обусловленная собственными действиями государства, в конце концов вызывает необходимость увеличения разрыва между валовым и чистым перераспределением (раздел «Перемешивание»). Вместо того чтобы ограбить Петра и заплатить Павлу, платят обоим и обоих же грабят по все большему числу поводов (высокая степень валового перераспределения при низком и негарантированном чистом балансе); это вызывает тревогу и неизбежно порождает разочарование и фрустрацию.
На этой стадии государство завершает метаморфозу из соблазнителя-реформатора середины XIX в. в рутинного перераспределителя конца XX в., заложника накапливающихся непреднамеренных эффектов от своего стремления к согласию (раздел «К теории государства»). Если его цели таковы, что они могут быть достигнуты путем направления на них ресурсов его подданных, то рациональной стратегией государства будет максимизация дискреционной власти над этими ресурсами. Однако в своей неблагодарной «рутинной» роли оно использует всю свою власть для того, чтобы остаться у власти, и не имеет «незанятой» власти, которую может использовать по своему усмотрению. И это является для него рациональным поведением, подобно тому как для работника будет рациональным трудиться для того, чтобы обеспечить себе минимальное пропитание, а для совершенно конкурентной фирмы – функционировать на уровне самоокупаемости. Но высшая ступень рациональности приведет его к тому, что оно будет стремиться к освобождению от ограничений, накладываемых электоральной конкуренцией и необходимостью обеспечить согласие в обществе, – вроде того, как пролетариат, по Марксу, избегает эксплуатации путем революции или предприниматель у Шумпетера избегает конкуренции с помощью инноваций. Мой тезис не в том, что к этому «должны» прийти все демократические государства, а в том, что внутреннюю склонность к тоталитаризму следует рассматривать как симптом их рациональности.
Автономию действий при переходе от демократии к тоталитаризму не обязательно отвоевывать за один, заранее спланированный, единый шаг. По крайней мере поначалу это больше похоже на хождение во сне, чем на сознательное продвижение к четко осознаваемой цели. В главе 5 «Государственный капитализм» рассматривается политика, которая может провести государство шаг за шагом по пути к «самореализации». Ее результатом будет изменение социальной системы таким образом, чтобы максимизировать потенциал дискреционной власти и позволить государству полностью этот потенциал реализовать. Чтобы увеличить дискреционную власть (раздел «Что делать?»), нужно начать с решения задачи снижения автономии гражданского общества и повышения способности отказывать в согласии. Побочным эффектом политики, к которой обычно склоняется государство, управляющее «смешанной экономикой», является размывание значительной части фундамента этой автономии – возможностей независимого жизнеобеспечения людей. Завершением этого процесса является, как это называет «Манифест Коммунистической партии», «завоевание демократии» для того, «чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства»[7 - Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 4. С. 446. – Прим. науч. ред.]. Тем самым социалистическое государство кладет конец историческому и логическому отклонению, каковым является диффузия экономической власти в гражданском обществе при централизации политической власти. Однако при централизации и объединении двух видов власти оно создает социальную систему, которая несовместима с классическими демократическими правилами перехода власти и не может функционировать в соответствии с ними. Социальная демократия должна превратиться в народную демократию, систему, наилучшую из оставшихся систем, а государство уже стало достаточно сильным для того, чтобы обеспечить это превращение и предотвратить системный спад.
«Системные константы», в противоположность переменным, обусловленным человеческим фактором, рассматриваются в контексте частного и государственного капитализма (раздел «Государство как класс») для оценки места управляющей бюрократии. По причине неприемлемости тезиса о том, что разделение собственности и управления означает потерю контроля со стороны собственника, следует согласиться с тем, что пребывание бюрократа в должности не гарантировано, а его самостоятельность в принятии решений ограничена. Хороший или дурной характер бюрократов, составляющих государственные кадры, их «социально-экономические корни» и то, чей отец ходил в какую школу, являются переменными, а конфигурации власти и зависимости, характеризующие соответственно частный и государственный капитализм, являются константами; в таких выражениях, как «социализм с человеческим лицом», вес констант социализма относительно переменных «человеческого лица» лучше всего рассматривать как проблему личных надежд и страхов.
При государственном капитализме одни явления приводят к другим с более высокой степенью неизбежности, чем в более свободных социальных системах, и по мере исчезновения одних противоречий появляются другие, которые, в свою очередь, требуют устранения. Заключительный футуристический раздел этой книги («На плантации») посвящен логике государства, которое владеет всем капиталом и испытывает потребность владеть и работниками. Рынки труда и товаров, суверенитет потребителей, деньги, граждане-работники, голосующие ногами, – чуждые элементы, противоречащие некоторым из целей государственного капитализма. В той степени, в которой государство их затрагивает, социальная система приобретает некоторые черты патерналистского старого Юга США.
В определенных аспектах люди вынуждены превращаться в рабов. Они не владеют своим трудом – это их обязанность. «Безработицы нет». Общественные блага доступны в относительном изобилии, «одобренные товары», такие как здоровая пища или записи музыки Баха, дешевы, а заработная плата лишь немного превышает сумму карманных денег по стандартам внешнего мира. Люди имеют свою порцию жилья, общественного транспорта, здравоохранения, образования, культуры и безопасности в натуральной форме, вместо того чтобы получать некие талоны (не говоря уже о деньгах) и нести сопутствующее им бремя выбора. Соответствующим образом подстраиваются их вкусы и темпераменты (хотя не все попадают в зависимость, некоторые могут начать испытывать аллергию). Государство максимизирует свою дискреционную власть, но в конце концов обнаруживает себя перед лицом новых трудностей.
Цели рационального государства логически определяют обратные цели рациональных подданных, по крайней мере в том смысле, что говорят им о том, что необходимо делать для содействия ему или создания помех. Если они сумеют избавиться от несовместимых предпочтений, которые у них могут существовать (например, больше свободы и больше безопасности или больше государства и меньше государства одновременно), – что, вероятно, труднее, чем кажется, – они поймут, насколько сильно их желание содействовать или сопротивляться реализации задач государства. От этого знания должна зависеть их собственная позиция.
Глава I. Капиталистическое государство
Насилие, подчинение, предпочтение
Предпочтения людей относительно политического устройства зависят от их представления о собственном благе, а также от того устройства, которое полагается предпочитаемым.
Государства обычно начинаются с чьего-нибудь поражения.
Утверждения о том, что «исток государства – завоевание» и что «исток государства – общественный договор», не являются взаимоисключающими. Первое относится к тому, как государства возникали в реальности, а второе – это логическое умозаключение, причем оба они могут быть верными одновременно. Историческое исследование может установить, что, насколько мы можем знать, большинство государств возводит свое происхождение к поражению, нанесенному одному народу другим; реже – к возвышению победоносного вождя и его войска над собственным народом; и почти всегда – к переселению. В то же время общепринятые аксиомы помогут «установить» (в другом смысле этого слова), что рациональные люди ради своего же блага считают выгодным подчиниться монарху, государству. Поскольку эти два типа объяснений выражены в не связанных друг с другом понятиях, бесполезно пытаться соотнести их или отдать одному приоритет над другим. Не имеет смысла и вывод о том, что поскольку государства возникли и стали процветать, то отдать себя под их власть должно было быть рациональным решением для людей, заинтересованных в собственном благе, – в противном случае им пришлось бы гораздо больше повоевать, прежде чем они пришли бы к тому же решению.
Рассмотрим в этом свете одну из достойных попыток согласовать происхождение государства путем насилия (о чем свидетельствует история) с рациональным волеизъявлением подданного, которое лежит в основе онтологий аналитического типа, таких как общественный договор[8 - Robert L. Carneiro, “A Theory of the Origin of the State”, in J. D. Jennings and E. A. Hoebel (eds), Readings in Anthropology, 3rd edn, 1970.]. В этой работе говорится, что любой индивид, живущий в естественном состоянии, формирует оценку всех будущих доходов, которые он, вероятно, получит в этом состоянии, и всех будущих доходов, которые он мог бы получить в гражданском обществе, наделенном государством. Полагается, что вторая оценка больше, чем первая. Обе оценки приводятся к текущей ценности[9 - Во многих современных переводах англоязычный термин present value, следуя советской марксистской традиции, переводится как «текущая стоимость». Этот перевод неточен и может вводить в заблуждение. В настоящем издании слово value в большинстве случаев переводится как «ценность». – Прим. науч. ред.]. Для того чтобы все вокруг заключили общественный договор, обеспечивающий переход от естественного состояния к гражданскому обществу, требуется время. По этой причине высокие доходы, появляющиеся в результате возникновения государства, относятся к будущим периодам, а текущая ценность их превышения над доходами в естественном состоянии невелика. Это может стать недостаточно сильным стимулом для того, чтобы убедить всех согласиться на общественный договор. С другой стороны, государство можно быстро создать насильственным путем. Высокие доходы, порожденные его возникновением, начнут поступать быстро и уменьшатся не так сильно, если их привести к текущей ценности. Сравнение текущей ценности доходов в случае государства, которое формируется медленно, путем мирного обсуждения условий общественного договора, и в случае государства, которое создается быстрым насильственным путем, оказывается в пользу насилия. Тогда можно предположить, что рациональный индивид, стремящийся к максимизации своего дохода, положительно воспримет насилие по отношению к себе со стороны того, кто приносит с собой государство, либо сам обратится к насилию, чтобы организовать государство. Читатель может воспринимать это либо как объяснение причины того, что большинство государств было создано путем насилия, а не путем мирных переговоров (что, впрочем, не могло входить в намерения автора), или же как утверждение, что, какова бы ни была историческая причина в каждом конкретном случае, данная теория рациональной мотивации ей по крайней мере не противоречит.
В подобных теориях, как и в предшествующих им теориях общественного договора, напрашивается поспешный вывод о том, что поскольку государства возникали путем насилия и процветали и поскольку людям имеет смысл без колебаний покориться насилию, ведущему к созданию государства, к которому они стремятся, но не могут достичь, то люди с радостью восприняли насилие, направленное на создание государства, после того как оно было создано. Здесь предполагается, что государство независимо от своего мирного или насильственного происхождения помогает людям в их стремлении к своему благу.
К удивлению, это предположение практически никогда не формулируют в более общем виде, например таком, который позволяет использовать алгебраический знак. Тогда оно звучало бы как «государство помогает/препятствует», а итоговое соотношение зависело бы от эмпирического содержания терминов «помогать» и «препятствовать». Его можно было бы сформулировать более информативно: «государство помогает/препятствует одним людям, препятствует/помогает другим и не влияет на остальных». Тем, на кого оно влияет, государство помогает и препятствует по-разному и в разной степени. Алгебраическая сумма определяется сопоставлением между теми, кому оно помогает, и теми, кому оно препятствует, за исключением того случая, когда по счастливой случайности множество последних не окажется пустым (т. е. каждому государство либо помогает, либо оставляет его в покое). То, что мы натолкнулись на межличностные сравнения на столь раннем этапе, свидетельствует о том, что наши размышления по крайней мере движутся в правильном направлении, к центральным вопросам политической теории.
Если когда-нибудь и существовали люди, находящиеся в естественном состоянии – а навязывание им государства насильственным путем является регулярно повторяющимся историческим фактом, – то уместно задаться вопросом: почему стандартная политическая теория считает фундаментальной истиной утверждение, что они предпочли государство? На самом деле этот вопрос распадается на два, один ex ante[10 - До события (лат.). – Прим. науч. ред.], а другой ex post[11 - После события (лат.). – Прим. науч. ред.]: (i) Предпочитают ли люди в естественном состоянии это состояние государству? (ii) Будучи в государстве, предпочитают ли люди ему естественное состояние? Эти вопросы совершенно обоснованно учитывают определенную связь предпочтений с политическим окружением, в котором люди реально живут[12 - В более сжатом виде та же самая мысль содержится в прекрасной книге Майкла Тейлора «Анархия и кооперация» (Michael Taylor. Anarchy and Cooperation, 1976, p. 130): «…если предпочтения изменяются в результате наличия самого государства, тогда неясно даже, что означает желательность государства». См. также в работе Брайана Барри «Либеральная теория справедливости» (Brian Barry, The Liberal Theory of Justice, 1973, p. 123–124) близкие рассуждения о том, что, поскольку в результате социализации люди адаптируются к окружающей среде, маловероятно, чтобы неоднородное или плюралистическое общество стало однородным и наоборот, хотя «только одному поколению придется пострадать, чтобы создать ортодоксию (как показывает отсутствие альбигойцев во Франции и евреев в Испании)».Однако, на мой взгляд, Барри несколько однобоко использует аргумент о социализации. Нужно ли нам исключать вероятность того, что окружающая среда может порождать не только положительные, но и отрицательные предпочтения по отношению к самой себе? Имеется достаточно примеров, свидетельствующих о яростном отвращении к тоталитаризму и о стремлении к разнообразию со стороны некоторой неизвестной, но, вероятно, немалой части населения социалистических стран, принадлежащего ко второму социалистическому поколению, и даже среди населения Советской России, принадлежащего к третьему поколению. На плюралистическом Западе одновременно существует стремление к большему единству целей, к моралистическим установкам, неприязнь к массовости, к тому, что Даниел Белл называет «порно-поп-культурой» и «психоделическим базаром».Возможно, все это говорит только о том, что в любом обществе есть скрытые коррозийные элементы (хотя лишь в некоторых обществах правители подавляют их). В то же время если признать, что социальные состояния могут порождать положительные и отрицательные предпочтения, то обобщение аргумента об «эндогенных предпочтениях» оказывается далеко не тривиальным. В противном случае эндогенное формирование предпочтений будет постоянно закреплять любой статус-кво и исторические изменения станут еще более загадочными, необъяснимыми и произвольными, чем они есть на самом деле.]. Однако когда вопросы сформулированы таким образом, они приобретают некоторые очевидные особенности. Когда ученые, занимающиеся общественными науками, утверждают, что они знают, что Смит предпочитает чай кофе, потому что он так сказал или потому что он выявил свои предпочтения, выбрав чай там, где он мог выбрать кофе, они имеют дело с объектами, которые Смиту знакомы и доступны. Трудности начинают возникать, когда Смит говорит о своих предпочтениях относительно вещей, о которых он в лучшем случае что-то слышал. Эти трудности усугубляются, когда он не может транслировать заявленные предпочтения в реальный выбор, потому что некоторые альтернативы попросту недоступны. Люди, живущие в государствах, как правило, никогда не сталкивались с естественным состоянием, и наоборот, и не имеют реальной возможности переместиться из первых во второе. Предположение о возможности такого перемещения зачастую является анахронизмом с исторической точки зрения и абсурдом – с антропологической. На каком же основании тогда строятся гипотезы о сравнительных достоинствах государства и естественного состояния?[13 - В литературе, которая расцвела вокруг «Теории справедливости» Джона Ролза (John Rawls, Theory of Justice (1972) [русск. пер.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. Здесь и далее ссылки даются, как правило, на это издание. – Науч. ред.], по-видимому, не возникло никаких возражений против «исходного положения» на этом основании. Участники исходного положения лишены всех знаний о своей личности. Они не знают, являются ли они представителями англосаксонских мужчин или индейских женщин, штатных университетских философов или получателей пособий. Они даже не знают, в каком веке они живут (хотя это трудно согласовать с их знанием «политических вопросов и принципов экономики»). Они вынуждены искать «кооперативное решение» (в терминах теории игр) для своего существования – решение, которое можно упрощенно интерпретировать как соглашение по поводу общественного договора для справедливого государства.Не достигнув согласия и покинув исходное положение, они окажутся в естественном состоянии. Такого исхода они стремятся избежать, потому что знают о себе и о государстве достаточно, чтобы предпочитать последнее естественному состоянию. Они знают свои «жизненные планы», осуществление которых зависит от обладания материальными и нематериальными «первичными благами». Им также известно, что в государстве благодаря «преимуществам социальной кооперации» им доступно больше первичных благ, чем в естественном состоянии. Т. е., говоря техническим языком, участники знают, что, торгуясь по поводу общественного договора (который является справедливым в том и только в том смысле, что все стремятся выполнять его условия), они играют в «игру с положительной суммой». Это означает, что если кооперативное решение найдено, то можно будет распределить больше первичных благ, чем в противном случае.Однако сравнение двух наборов первичных благ требует применения индексов, а веса, принятые для вычисления индекса (например, относительная ценность свободного времени по сравнению с реальным доходом), не могут не отражать логически предшествующие предпочтения относительно типа общества. Другими словами, люди в исходном положении не могут сказать, что набор первичных благ, доступный в естественном состоянии (и содержащий, например, много досуга), меньше, чем набор, доступный в государстве (и содержащий, например, много материальных потребительских благ), если только они не знают заранее, что предпочитают жить в гражданском обществе. Сопоставление набора благ в естественном состоянии и набора благ в государстве предполагает наличие тех самых предпочтений, которые используются при таком сопоставлении и которые требуется объяснить.Набор первичных благ в естественном состоянии содержит больше тех вещей, к которым люди, живущие в этом состоянии, привыкли и которые научились ценить. Для них этот набор больше. Обратное верно для набора, доступного в условиях социальной кооперации. Этот набор больше для людей, которые научились любить то, что он содержит, и не обращать внимания на его ограничения. Но могут ли люди в исходном положении сказать, какой из наборов больше?]
По-видимому, у некоторых племен индейцев в Южной Америке (и, вполне возможно, в других местах) увеличение размера демографической единицы повышает вероятность создания государства, возможно, вследствие изменения масштаба и типов войн, к которым ведет такое увеличение. Вождь при поддержке своих квазипрофессиональных воинов может принудить остальных жителей к подчинению на продолжительный срок. В книге Пьера Кластра, которая должна занимать заметное место в любой библиографии по общественному договору[14 - Pierre Clastres, La sociеtе contre l’еtat, 1974; англ. пер.: Society against the State, 1977.], сообщается, что народности тупи-гуарани удавалось останавливать этот процесс. Ведомые своими пророками, тупи-гуарани толпами откалывались от государства, которое они отождествляли со злом, и уходили в отдаленные и жутковатые места ради того, чтобы избежать еще большей угрозы в виде подчинения ему. Племена американских индейцев, которые изучал Кластр, как правило, живут в естественном состоянии, слабо связанном с уровнем технического развития и сильно – с политической властью. Их вожди могут убеждать, но не приказывать, и, чтобы добиться своего, должны полагаться на риторику, авторитет и щедрое гостеприимство. Их авторитет отчасти определяется тем, что они редко рискуют вмешиваться в дела, где их призывы не будут приняты во внимание. У них нет аппарата, который обеспечил бы подчинение, и индейцы не стремятся добровольно договориться о подчинении вождю, хотя и могут соглашаться с ним в конкретных ситуациях.
Их общества, по мнению Кластра, – настоящие общества изобилия, которые легко могут произвести излишки, но не делают этого, считая двухчасовой рабочий день достаточным для того, чтобы полностью обеспечить им то, что они считают адекватными средствами к существованию. Хотя практически ничего не производится с целью обмена, существует частная собственность; без нее было бы невозможно частное гостеприимство или приглашения на пиры. Очевидных препятствий к разделению труда, а тем самым и к капитализму нет, но блага, возникающие в результате разделения труда, не ценятся. Работа является объектом презрения. Охота, сражения, рассказывание историй и посещение праздников предпочитаются тем благам, которые могут быть созданы с помощью труда. Немедленно напрашивается вопрос: означает ли это, что индейцы ненавидят свойственные государству отношения власти-подчинения и живут в естественном состоянии из-за своих предпочтений? Или же именно жизнь в естественном состоянии предопределяет то, что превыше всего они ценят материальные и нематериальные блага, которые этому состоянию обычно сопутствуют?
Маркс, без сомнения, не одобрил бы ту роль, которая отводится вкусам и предпочтениям в такой постановке вопроса, и, вероятно, решил бы, что сельское хозяйство, обеспечивающее минимальное пропитание, собирательство и охота есть феномены бытия, «базиса», а государственные институты – феномены сознания, «надстройки», и поэтому первые определяют вторые. Кластр, со своей стороны, утверждает обратное[15 - Ibid, ch. 11.]. Аналитически (а не исторически) оба взгляда верны в том же смысле, что и утверждения «курица породила яйцо» и «яйцо породило курицу». Мое мнение в данном случае заключается в том, что предпочтения относительно политического устройства общества в значительной степени являются продуктом самого этого устройства. Политические институты вызывают либо привыкание, как некоторые лекарства, либо аллергию, как некоторые другие, либо и то и другое, поскольку у одних людей может возникать одна реакция, у других – другая. Если это так, то к теориям о том, что люди в целом (Гоббс, Локк, Руссо) или правящий класс (Маркс, Энгельс) формируют подходящее для них политическое устройство, следует относиться с большим недоверием. Напротив, позиция, заключающаяся в том, что исторические результаты получаются, в сущности, непреднамеренно (Макс Вебер), заслуживает предпочтения как более многообещающая аппроксимация многих взаимосвязей между государством и его подданными.
Титулы собственности и контракты
Государство является капиталистическим, если ему не требуется оправдания права собственности и если оно не вмешивается ради собственного блага в контрактные отношения между людьми.
Истоки капиталистического права собственности лежат в принципе «нашедший становится владельцем».
Этот принцип допускает переход от владения к праву собственности, к действительному титулу собственности, независимо от ее особенностей, от того, кем является держатель титула, и того, как он использует или не использует собственность. Государство, признающее титул собственности на этом основании (хотя оно может признавать его также и по другим основаниям), удовлетворяет одному из необходимых условий «капиталистического государства» в том смысле, которым я пользуюсь здесь (и который будет полностью прояснен далее). Титул не становится недействительным по причине редкости [scarcity], не зависит ни от заслуг, ни от статуса и не влечет за собой никаких обязательств. Упоминание редкости требует некоторых пояснений. Я имею в виду, что, если человек может владеть одним акром (земли), он может владеть и миллионом акров. Если титул действителен, то он действителен независимо от того, осталось ли что-то для всех прочих (по знаменитому выражению Локка, «достаточное количество и того же самого качества»[16 - Локк Дж. Два трактата о правлении. II, 27. Здесь и далее ссылки русский перевод дается по изданию: Локк Дж. Соч. В 3-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1988.]). Право собственности не отменяется редкостью объектов, находящихся в собственности, или желанием тех, кому они не принадлежат, обладать ими. Таким образом, в капиталистическом государстве доступ к редким благам регулируется с помощью цен и взаимозаменяемости, а не суверенной власти, как бы она ни была устроена.
Те, кто вырос на понятиях первоначального накопления, разделения труда и присвоения прибавочной стоимости как источника дальнейшего накопления, вряд ли примут такой подход к происхождению капитала и сущности капиталистического государства. Несомненно, что лишь малая часть капитала была «найдена», а большая была накоплена. Более того, переходить от «производственных отношений» (которые, как показал Пламенац, означают отношения собственности, «если они вообще хоть что-то означают»)[17 - John Plamenatz, Man and Society, 1963, vol. II, pp. 280–281. См. также его Marxism and Russian Communism, 1954, ch. 2.] к «средствам производства», объектам собственности для марксистов и, вероятно, большинства немарксистов означает ставить телегу впереди лошади. Но преобразование средств производства в капиталистическую собственность происходит не потому (или по крайней мере не всегда потому), что изменяются сами эти средства производства или применяемые к ним технологии. Земли любого из крупных французских или немецких благородных семейств вплоть до Тридцатилетней войны можно назвать принадлежащими ему лишь в самом расширительном смысле слова. Они были средством производства, но, конечно, не объектом капиталистической собственности, подобно английским или итальянским землям. Земли, принадлежавшие английской знати и нетитулованному дворянству начиная с XVI в., с полным правом могут считаться капиталом, и они действительно послужили главным трамплином для развития английского капитализма. Морские перевозки и другие способы накопления капитала через торговлю начали бурно развиваться во времена поздних Тюдоров и Стюартов во многом благодаря вложениям землевладельцев. Некапиталистическое (я намеренно избегаю термина «феодальное») владение землей обычно имело место по факту службы и продлевалось исходя из ожиданий будущей службы (в большей или меньшей степени обоснованных и реалистичных). Это относилось к лендлорду, который обязан был прямо или косвенно служить сюзерену, и к его крестьянам, обязанным служить лендлорду[18 - Ср.: C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, 1962, p. 49, где высказывается точка зрения, согласно которой рынка земли не может быть при отсутствии безусловного права собственности. Тот же аргумент действует и для любых других «средств производства», включая труд. (Для Макферсона, как и для Маркса, разложение началось тогда, когда за индивидом было признано право владеть своим трудом и он начинал продавать труд, а не его продукты.) В России владение землей по службе означало, что крепостные («души») до 1747 г. не могли быть проданы без земли, потому что они были необходимы для поддержания способности лендлорда служить государству. [Автор здесь допускает неточность. Сама по себе продажа крестьян без земли практиковалась уже с конца XVII в., но указ 1747 г. существенно расширил эту практику, допустив продажу дворовых людей и крестьян для отдачи в рекруты. – Науч. ред.] Возможность передавать «души» от одного хозяина другому (прежде рассматриваемая как функция лендлорда, осуществляемая от имени настоящего владельца – государства) была симптомом социального прогресса, знаком того, что частная собственность в России укоренялась. Читателю следует иметь в виду, что российская знать не имела титула на свои земли до 1785 г. и что наделение землей по службе было весьма ненадежным. Ввиду молодости частной собственности как социального института прогресс капитализма в России в преддверии 1917 г. был наиболее значительным.]. Для социальной эволюции в Англии характерно, что владение землей столь быстро стало безусловным и что оставшиеся условия (необременительные и неписаные) относились к местному правосудию и благотворительности, где лендлорд заменял собой государство, а не служил ему.
Крестьянин в «передельной» деревне Северной и Центральной России получал землю в соответствии со своим положением и количеством взрослых людей в семье. Можно сказать, что его владельческий титул определялся статусом, потребностью в земле и способностью ее обрабатывать. Каждые несколько лет, когда этого требовало совокупное изменение потребностей его и других семей в данной деревне, верхушка влиятельных крестьян, управлявших общиной, могла забрать у него полосы земли и выделить ему другие, худшие. Однако продать или купить землю в общине было нельзя, в противном случае земля являлась бы капиталом. Земля, которую американский фермер «находил» на фронтире, или право на которую он «доказывал» по закону 1862 г. о земельных наделах (гомстедах), или которую он получал от кого-либо, кто обладал землей на этих условиях, была капиталом. Производственные помещения, инструменты и запасы материалов мастера ремесленной гильдии не были капиталом. Физически крайне схожие с ними производственные помещения, инструменты и материалы его последователя, мелкого предпринимателя-ремесленника, в условиях Gewerbefreiheit представляли собой самую сущность капитала[19 - Gewerbefreiheit, свобода заниматься конкретным ремеслом или промыслом, была введена в Австро-Венгрии в 1859 г., а в различных германских государствах – в начале 1860-х. До этого сапожнику требовалось государственное разрешение на то, чтобы чинить обувь, а торговцу тканями – на то, чтобы продавать свои товары. Разрешение выдавалось или не выдавалось по усмотрению государства, якобы на основании опыта и хорошего положения в обществе, а на деле – в качестве средства регулировать конкуренцию. В любом случае из-за необходимости получать разрешение осуществить передачу нематериальных активов бизнеса было непросто.]. В отличие от своего предшественника из гильдии, он мог быть кем угодно и вести дела по своему усмотрению. Не масштаб этих предприятий и не использование наемного труда делают первое докапиталистическим, а второе – капиталистическим. Оба генерировали «прибавочную стоимость» и позволяли своему владельцу присваивать ее. Однако (за исключением, может быть, Италии к северу от папских владений) титул собственности мастера гильдии на его предприятие зависел не только от ограничений на выпуск, цены и качество, но и от того, кем он был и как он жил.
Право собственности, для обладания которым не требуется определенного происхождения, образа жизни, несения службы или внесения выкупа, но которое просто есть, в не меньшей степени представляет собой идеологический феномен. Признание его является отличительной приметой идеологии, определяющей капиталистическое государство, точно так же, как право собственности, обусловленное соблюдением некоторых принципов общественной полезности, справедливости, равенства или эффектности, которое не отменяется или по крайней мере корректируется насильственным путем, если эти принципы не соблюдаются, удовлетворяет идеологии, которую называют то демократической, то либеральной, то социалистической, то различными комбинациями этих слов.
Неудивительно, что взаимосвязь между правом собственности, основанным на принципе «нашедший становится владельцем», и капиталистическим государством действует в обоих направлениях. Как и в других неявных функциях, составляющих основу общественных наук, в ней нет зависимой и независимой переменной, однозначных причины и следствия. Эта взаимосвязь означает лишь то, что для принятия и поддержания этого в высшей степени позитивистского, ненормативного принципа права собственности необходимо капиталистическое государство и что для того, чтобы сделать государство капиталистическим, необходимо строгое, ничем не обусловленное право собственности.
Существует и второе необходимое условие капитализма, которое неизбежно связано с первым, не будучи его частью. Это свобода контрактов. В тех случаях когда, как в большей части средневековой Европы, владение собственностью подразумевало наличие обременительных обязательств и было доступно лицам, обладающим определенным статусом или другими определенными характеристиками, отчуждение путем свободного контракта не могло поощряться сюзереном. Даже брачный контракт подлежал одобрению государством, и для действительно высокопоставленных семейств это оставалось в силе вплоть до XVIII в. Постепенно собственность стала управляться контрактом, а не статусом, отчасти потому, что натуральные сервитуты заменялись деньгами, а отчасти потому, что из обязательств владельца они превратились в обременение собственности – маркизата, а не маркиза, – так что государство ничего не теряло от того, что она (собственность) переходила в руки появившихся откупщиков или чиновников, покупающих свои должности. Во многом аналогичные трансформации вели от личных долгов, с которыми необходимо было расплачиваться или идти в тюрьму, к залогу собственности без права регресса и к обязательствам предприятия, которое могло переходить из рук в руки, еще до того, как получил распространение формальный институт ограниченной ответственности.
Свободу контрактов как необходимое условие капиталистического государства можно понимать как свободу нашедшего не просто владеть найденным, но и передавать все права на него другому лицу на любых условиях, и далее – как свободу последнего передавать полученное третьему лицу. В капиталистическом государстве свобода контрактов должна доминировать как над идеями статуса и причитающихся привилегий, так и над идеями справедливых контрактов (справедливой заработной платы, справедливой цены).
Если бы все блага в мире были случайным образом разделены на наборы, не принадлежащие никому, и все люди вслепую выбрали бы по одному набору, то в тот момент, когда все смогли бы увидеть свои наборы и наборы всех остальных, мы получили бы достаточно прозрачную ситуацию для взаимодействия свободных контрактов, статуса и справедливых контрактов. Если бы в некоторых наборах присутствовали бобровые шапки и для одних людей они были бы более привлекательными, чем другие вещи, а для других – наоборот, то после некоторой неразберихи каждый получил бы то, что ему больше нравится, – естественно, при ограничениях на доступность, заложенных в первоначальных наборах. Если бы после этого людям ниже определенного статуса было запрещено носить бобровые шапки (как это было до конца XVII в., когда европейский рынок заполонили шкурки канадских бобров), их цена (выраженная в других товарах) снизилась бы, и даже тогда некоторое количество обменов шапок на другие предметы не состоялось бы, поскольку некоторые люди, обладающие требуемым статусом, но не слишком заинтересованные в таких шапках, оставили бы у себя те шапки, которые оказались в их первоначальных наборах. Если бы, кроме того, имелась некая власть, которая могла бы запретить несправедливые контракты, и она решила бы, что справедливая цена бобровой шапки такая же, какой она была всегда, то количество взаимовыгодных обменов сократилось бы еще больше, поскольку справедливую цену были бы готовы платить только люди требуемого статуса, которым очень нужна такая шапка. Некоторое количество шапок, таким образом, оказалось бы никому не нужным, потому что их владельцы не смогли бы ни носить их, ни обменять на что-либо другое.
Аналогичные, хотя и менее абсурдные проблемы возникают, когда мы рассматриваем наборы, состоящие из всевозможных талантов, навыков, знаний и мускульной силы, и различные возможности трудоустройства, приложения для этого таланта, потребности в навыках или физической силе. Как и следует ожидать при случайном распределении, внутри каждого набора будет безнадежное несоответствие между талантами и возможностями их приложения, навыками и потребностями в них. Правила, связанные со статусом, и запрет несправедливых сделок, например установление минимальной заработной платы или «ставки за определенную работу», сделают невозможной по крайней мере часть соответствий, которые могли бы возникнуть между наборами. В этом контексте капиталистическим государством, естественно, является такое, которое не вводит правил и ограничений на свободу контрактов, связанных со статусом или справедливостью[20 - Не следует путать несправедливость и мошенничество. Несправедливый человек, если сможет, наймет вас на такую заработную плату, за которую невозможно работать. (Что в точности это означает – большой вопрос. Поскольку меня не волнуют сущностные вопросы справедливости, я, к счастью, могу это пропустить.) Мошенник же не заплатит вам обещанной суммы. Капиталистическое государство, конечно, должно преследовать мошенничество.], пассивно позволяя идеям, порождающим такие правила, исчезать под напором капиталистической идеологии (если такой напор имеет место) и под влиянием потребностей капиталистической деловой практики. Однако государство, которое станет запрещать и подавлять эти правила, может начать испытывать склонность к запретам и подавлению вообще и, как следствие, недолго останется капиталистическим.
Парето дал точное определение тому, в каком смысле добровольное перераспределение содержания случайных наборов их владельцами приводит к «наилучшему» распределению всех благ в мире. Если два взрослых человека по взаимному согласию заключают контракт и отсутствуют доказательства принуждения (т. е. иные доказательства помимо того, что контракт представляется неблагоприятным для одной из сторон), то мы исходим prima facie[21 - При отсутствии доказательств в пользу противного (лат.). – Прим. науч. ред.] из того, что они предпочитают заключить друг с другом контракт, чем не заключать. (Точнее, это условие состоит в том, что один из них предпочитает заключить контракт, а другой либо предпочитает заключить контракт, либо безразличен к этому.) Можно также (хотя и с меньшими основаниями) утверждать, что в этом случае не существует другого контракта, который эти два лица могли бы заключить и который был бы для одного из участников более предпочтительным, а другой участник остался бы к нему по крайней мере безразличным. Тогда, если нельзя показать, что их контракт нарушает права третьей стороны (хотя он может нарушать ее интересы), никто – ни третья сторона, ни кто-либо другой под предлогом защиты своих интересов – не имеет права препятствовать исполнению контракта его участниками. Отмена контракта или насильственное изменение его условий ex post, не говоря уже о требовании того, чтобы контракт с измененными условиями оставался обязательным для сторон, – все это способы «препятствовать» участникам, которые обычно сохраняются за государством (ср. с. 149–150).
Условие, что «нельзя показать, что их контракт нарушает права третьей стороны», не является простым или очевидным, хотя оно и возлагает бремя доказательства на того, на кого и следует. Иногда допускается перенос этой ответственности на участников контракта, которые должны доказать, что не нарушают прав третьей стороны. Это встречается в практике некоторых американских регулирующих органов. Нормы, касающиеся прав кого-либо по отношению к контракту, в котором он не является одной из сторон, невозможно сформулировать в отрыве от культуры и идеологии, и даже тогда они могут оставаться спорными. Например, если оставаться в сфере капиталистической культуры и идеологии, будет ли то, что контракт заключается не с участником, предложившим заявку с наименьшей ценой, нарушением прав этого участника, если в условиях конкурса отсутствовало явное правило о принятии наименьшей из предложенных цен? Должен ли получить работу самый квалифицированный кандидат? Можно ли изменять характер землепользования, если это портит вид соседям? Возможны разные капиталистические ответы на эти вопросы. Капиталистическая судебная практика в различных юрисдикциях может трактовать понятие «третьей стороны» более или менее строго, и требуется тщательно изучить ситуацию, прежде чем делать вывод о том, что то или иное государство не соблюдает свободу контрактов и по этой причине является противником капитализма.
С другой стороны, однозначным отказом от свободы контрактов является отмена или насильственное изменение условий контрактов (например, для того чтобы сделать их более благоприятными для одной из сторон) на основаниях, не связанных с правами третьей стороны. Принятие таких оснований предполагает, что индивид, вступая в контрактные отношения, способен нарушить свои собственные права, и не допустить этого – задача государства, которое действительно должно заниматься защитой признанных прав. Это ведет к целому спектру ситуаций, в которых можно заявить, что индивида необходимо защищать от самого себя. Один из часто упоминаемых вопросов (который затрагивает и другие проблемы) связан со свободой человека (в смысле его права) продать себя в рабство[22 - Ответ, соответствующий капиталистической идеологии, очертания которой я пытаюсь набросать, будет выглядеть так: «Да, человеку должна быть предоставлена свобода продать себя в рабство; никто не может более компетентно судить о причинах, побудивших его к этому, чем он сам». Тем не менее долг государства – отказать институту рабства в юридической защите и приложить усилия к тому, чтобы оно было исключено из возможностей, доступных в условиях свободы контрактов. Контракты, по которым работорговцы продавали захваченных африканцев рабовладельцам, очевидным образом нарушают права африканцев. Если выросшие на плантациях рабы в третьем поколении по причинам, которые всегда будут сомнительными, но все же их причинами, не стремятся к свободе, надо подумать еще раз. Заметим, что британское правительство сначала запретило торговлю рабами, но не запретило рабства. Государство просто должно гарантировать, что, если раб захочет уйти с плантации, ему не должны мешать, т. е. оно не должно обеспечивать исполнение контракта, по которому раб принадлежит плантатору. Это явно не аболиционистская позиция. Неясно, стала бы она приемлемым компромиссом для Калхуна и Даниела Вебстера.]. Принципиально иной довод в пользу отказа от свободы контрактов вытекает из утверждения, что, соглашаясь на определенный набор условий, индивид может иметь ошибочное представление о своих интересах или предпочтениях. Основание для того, чтобы его остановить, связано не с его правами и a fortiori[23 - Тем более (лат.). – Прим. науч. ред.] не с конфликтом между правами, а с его функцией полезности, как ее видит извне сочувствующий наблюдатель. Таким образом, человеку запрещают покупать виски потому, что его реальное (или «рациональное», «истинное», «долгосрочное» или «неискаженное», как его иногда называют для того, чтобы отличить от обычного) предпочтение – трезвость. Аргумент «слабоволия» можно привлечь для того, чтобы оправдать различие между простым выявленным предпочтением виски и неискаженным долгосрочным предпочтением трезвой жизни. Однако в таком случае следует согласиться с во многом аналогичным различием для того, чтобы поддержать другие приложения принципа патернализма: выплату заработной платы натурой, предоставление государством услуг (например, здравоохранения) в натуральном виде, обязательное страхование, образование и т. д., и все это – вместо того чтобы дать реципиенту деньги и возможность расходовать их по своему усмотрению.