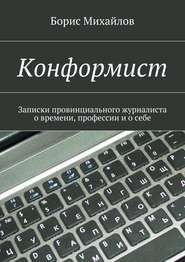скачать книгу бесплатно
Конформист. Записки провинциального журналиста о времени, профессии и о себе
Борис Михайлов
Автор около десяти лет проработал в газетах Сибири и Поволжья, 26 лет на Куйбышевском областном телевидении. На пенсии недолго – в христианском книжном издательстве. «Записки» охватывают период с начала сороковых годов ХХ века и первые полтора с лишним десятка лет в ХХ?. Не очень далекое прошлое в воспоминаниях свидетеля времени должно показаться интересным историкам и журналистам, а личные страницы – любителям мемуарного жанра.
Конформист
Записки провинциального журналиста о времени, профессии и о себе
Борис Михайлов
© Борис Михайлов, 2017
ISBN 978-5-4485-2509-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Борис Михайлов – репортер, редактор, сценарист, режиссер. Член Союза Журналистов РФ. Автор книги об истории одной из протестантских конфессий – методистской церкви, издана в Москве и США. Написал несколько женских любовных романов и пьес.
Журналистике и литературе я посвятил всю жизнь. Около десяти лет проработал в городских и областных газетах Сибири и Поволжья, двадцать шесть лет на Куйбышевском областном телевидении репортером, редактором, сценаристом и режиссером. На пенсии недолго поработал в христианском книжном издательстве.
В сознательном возрасте посчастливилось стать свидетелем, а часто и участником событий истории с начала сороковых годов ХХ века, и первые полтора с лишним десятка лет, в ХХ?. Причисляю себя к «шестидесятникам», на 60-е годы пришелся пик творческой активности, работа в прессе, участие в общественной жизни.
При мне рухнул советский строй, продержавшийся 70 лет. Развалили его не прозревший народ, понявший, дальше так жить нельзя, не революционеры – подпольщики и диссиденты, а сами властители страны, руководители КПСС. Через несколько лет, выброшенные революционной перестройкой из своих кресел, те же руководители (ГКЧП), предприняли попытку вернуться к старому, но народ, и новые властители, вкусившие свободы, не позволили.
Воспоминания не претендуют на научно-историческое повествование. Они лишь субъективные свидетельства очевидца событий и времени.
В памяти сохранилось разное, общественное и личное. Часто не в хронологическом порядке, порой не привязанное к определенной дате.
Надеюсь, не очень далекое прошлое страны, не из пыльных архивов, а в воспоминаниях свидетеля времени, окажутся интересными историкам и журналистам, а личные страницы – любителям мемуарного жанра, и, конечно, внукам и правнукам.
Детство
Родился и вырос я в сталинское время, и начну с человека, именем которого стала целая эпоха. С имени Сталина.
Моё знакомство с ним состоялось в первом классе, на второй или третий месяц учебы, в 1943 – м году. Первые палочки и крючочки, с хвостиками или без, выводили мы тогда деревянными перьевыми ручками с пером №86 в тетрадках в косую линию. Тетради такие, впрочем, как и в линейку, или клетку, в те времена были в дефиците. А в косую линию нельзя было купить даже на Кубинке, главной толкучке Азербайджана. Мама покупала там тетради в линию, а затем с помощью рейсшины или двух треугольников, наносила косые линии карандашом.
Спустя десятилетия, не могу вспомнить, как в школе родилась идея от имени класса написать письмо Сталину, поблагодарить за наше счастливое детство, пожелать скорейшей победы на войне, и обратиться с просьбой, прислать тетрадей в косую линию и перьев №86, только которыми разрешалось писать. У Нины Николаевны – моей первой учительницы, или завуча школы, а может у инспектора РОНО? Писали такие письма в других классах? Не знаю, спросить не у кого.
Трудно поверить, в разгар войны, когда еще продолжалась историческая битва на Курской дуге, «дедушка Сталин» нашел время прочитать письмо первоклашек и ответить на него. Прислал посылку с тетрадями, ручками, новыми Букварями и конфетами.
Каждому в классе, помню, досталось по одной конфете «Мишка косолапый» с репродукцией Шишкинских медведей на фантике, который я берег полгода, пока не поменял во дворе на саккиз (жвачку из серы). Кроме «Мишки косолапого» каждому вручили «сталинский подарок» – еще по три сливочных ириски, несколько тетрадей, красную деревянную ручку, коробочку перьев №86 и нескольких перьев – «лягушек», писать которыми не разрешалось, но рисовать танки и самолеты было удобно. Всем классом потом сочинили мы текст благодарности великому другу детей и послали в Москву, в Кремль.
С высоты лет, понимаю, письмо наше вряд ли передали вождю, да оно дальше РОНО или райкома партии и не пошло бы! Восхищаюсь работой идеологов и пропагандистов того времени. В трудные годы всеобщего дефицита сумели преподать отличный урок заботы вождя о детях, родителям и самим детям! Могут ли дети забыть эту посылку!
Через десять лет, мартовским холодным утром мы, десятиклассники Мингечаурской средней школы №3, стояли на школьной линейке, слушали трагическую информацию Директора о смерти нашего любимого вождя, и вместе с учителями, не стесняясь слез, плакали. Слезы были искренними.
Смерть Сталина потрясла жизнь в городе. Несколько дней не было занятий в школе. По радио целыми днями звучали траурные марши, в очередях обсуждали «Как же теперь жить без Сталина? Не дай Бог, война, за кого пойдем умирать – за Маленкова?». Верующие старушки крестились: «Отец родной, на кого ты нас покинул?» В день похорон по всей стране проснулись заводские гудки, завыли пожарные и милицейские сирены. В городе Мингечауре, где я недолго был вынужден жить и учиться, остановились и загудели десятки паровозов, перевозящих составы с гравием на плотину строящейся ГЭС, завыли сирены у военных и в лагерях узников ГУЛАГа.
К концу марта пятьдесят третьего, радио сократило трансляции траурной музыки, а в апреле её полностью перестали передавать. Жизнь не остановилась, мы продолжали ходить в школу, учителя пугали приближающими экзаменами и тройками в Аттестате. Сталина вспоминали все реже.
Я перенёсся далеко вперед, вернемся к школе, где я продолжал учиться в первом классе бакинской школы №42 на Четвертой Нагорной улице в Арменикенде. Одноклассников набралось 32 – 35 учеников, русские, евреи, несколько азербайджанцев и больше всех – армян. Жили мы в армянском районе Баку, где испокон века селились армяне. Никто из одноклассников, их родителей не интересовался нацией соседа по парте. Число учеников врезалось в память, потому что в порядке очередности, свою учительницу Нину Николаевну в нашем доме должны были кормить обедом. Ожидая своего дня, мама переживала и считала дни: двадцать два, двадцать один, двадцать дней, сколько еще оставалось до нашей очереди. Приходилось ведь отрывать от своих скудных запасов пищи. Для учительницы готовилась не скромная еда, которой мы, я с братом, мамой и бабушкой питались, а приготовить что-то лучшее. Не супчик из шпината и жидкое картофельное пюре, изредка с рыбкой – камсой, нашей основной пищей. Мама за неделю начинала экономить американский маргарин, хлопковое масло для жарки картофеля и рыбы, сахар или конфеты – подушечки, чем отоварили в последний раз карточки, даже покупала кусочек мяса. Старалась, накормить учительницу не хуже, чем в других семьях одноклассников.
Учительнице – армянке, было лет тридцать – тридцать пять, а может и меньше, мне она казалась пожилой женщиной. Муж Нины Николаевны погиб в 42-м под Москвой, и кроме старой матери у неё никого не было. Обед вне дома в те голодные годы помогал ей выживать, больше продуктов, получаемых по карточкам, оставлять матери. Кто завел порядок, родителям учеников раз в месяц кормить учительницу обедом, не знаю. Так было принято в бакинской школе номер сорок два, возможно и в других школах.
Самое раннее, что сохранила память, в трехлетнем возрасте посещение кинотеатра во Дворце культуры в Сураханах. Это был дворец, из тех, про которые мне читали или рассказывали сказки. Первое, огромное многоэтажное каменное здание, с колоннами, которое увидел. Много позже, пересаживаясь в Сураханах из электрички на поезд – кукушку на пляж в Бузовны с родителями, я всегда останавливал взгляд на этом здании, напротив остановки.
В тот день в кинозале Дворца показывали «Веселых ребят». Я спокойно рассматривал движущие картинки на экране, не понимая, смеялся вместе с родителями, пока в квартиру экзальтированной дамы, вслед за Утесовым, не вторглось стадо животных. Когда показали крупно быка со шляпой, проткнутой его рогом, я испугался, задрожал и заревел на весь зал от страха. Папе пришлось унести меня в фойе. Вышла мама, и вдвоем, принялись успокаивать меня, уговаривать вернуться в зал досмотреть картину. Я продолжал реветь, и мы так и не увидели тогда фильма.
Я рано научился говорить, был очень любознателен, быстро и надолго запоминал разные слова и выражения, которые употребляли взрослые. Однажды на перроне мы ждали электричку в город, и вдруг по встречному пути показался паровоз с грузовыми платформами. Паровоза раньше я не видел и был удивлен его видом, размерами и густым черным дымом из трубы. Его неожиданное появление на рельсах электрички, мама прокомментировала, как «Чудеса в решете». С тех пор, как услышу это выражение, на память приходит огромный паровоз с черным дымом. Взрослым узнал, вагоны электрички, которые привык тогда видеть на этих путях, были первыми в СССР. Электрификация железных дорог в стране началась с Азербайджана, богатого энергоресурсами. В 1926 году электрифицировали участок, связывающий Баку с пригородами. Первые электрички в Москве пошли только в 1930 году на участке Москва – Мытищи, а в Ленинграде лишь в 1933 году.
Теперь, почему в кино мы оказались в Сураханах, а не в близких к дому, кинотеатре «Вышка» или в «Художественном», на худой конец, в «Баккоммуне». Сураханы были ближе к нашему тогдашнему жилью, которое некоторое время мы снимали в селении Амираджаны, пригороде Баку на Апшероне.
Разругавшись с маминой сестрой, родители вынуждены были уехать из её квартиры в самом престижном, зеленом районе Баку, на проспекте Ленина, в Арменикенде. Первом современном городском микрорайоне со всеми бытовыми удобствами, построенном в 1924 —1930 годах, после установления в Азербайджане советской власти. Правда, определения микрорайон, в те времена еще не существовало. Дома именовались номерами и кварталами. Например, квартал 648, где находился мой детский сад, квартал 225 с популярным до нынешних времен гастрономом номер двадцать пять, седьмым почтовым отделением связи, и детской поликлиникой во дворе, и наш, двести двадцать третий квартал, ограниченный Первой Нагорной улицей и Верхне – Бульварной. Престижнее нашего был лишь район на берегу моря, дома там стояли с дореволюционных времен. Проспект Сталина, ныне – Нефтяников.
Квартира принадлежала сестре моей мамы – тете Симе. Получил квартиру один из её мужей, как тогда говорили, ответственный работник Совнаркома – Совета Народных комиссаров, товарищ Стешенко. Характер у маминой сестры был далеко не ангельский, и муж сбежал, оставив ей квартиру. Сима осталась одна в большой трехкомнатной квартире. Работая в Управлении Гидрометеослужбы республики, напрямую подчиненному СНК, вскоре узнала, что в совнаркоме на квартиру имеют виды, а её собираются переселить. Чтобы не потерять квартиру, Сима срочно пригласила переехать к ней из Крыма своих маму – Ксению Васильевну и отца – Василия Васильевича, сестру Людмилу – будущую мою маму.
Василию Васильевичу – агроному, специалисту по виноградарству, вскоре предложили должность главного агронома в винодельческом совхозе под Шемахой, и они с Ксенией Васильевной поехали в совхоз, оставшись прописанными в Баку. Сестра поступила в Политехнический институт, где встретила моего отца – Бориса Сергеевича Михайлова и вышла за него замуж. На последнем курсе, институт реформировали и гидротехнический факультет, где учились родители, выделили из Политехнического, и присоединили к вновь созданному Сельхозинституту, перевели из Баку в Кировабад. Там они и получили дипломы.
Тем временем, в Шемахе, местная красавица – хохлушка, охмурила деда Василия Васильевича. Он влюбился в молоденькую, и ушел к ней. Бабушка вынуждено вернулась в Баку.
Когда в Кировабаде родился я, Сима позвала сестру к себе, в эти же дни в город вернулась из Шемахи её мама. Вместе они приехали в Кировабад, и, невзирая на протесты отца, увезли меня с мамой в Баку. Так, в возрасте двух месяцев я оказался в Баку, потому и считаю этот город своим родным.
После окончания родителями института, мама с папой вернулись в Баку и переехали в квартиру его родителей, на улицу Красную, в двух шагах от Баксовета. Я к тому времени немного подрос. Долго пожить в самом центре города нам не удалось, сталинско – ежовские чистки докатились до Баку. Сергея Михайловича Михайлова, отца моего папы, объявили врагом народа и арестовали. Повод нашелся в антисоветских настроениях. Он из дворянской семьи, до революции преподавал, был директором гимназии.
Сима с Ксенией Васильевной испугались за маму, ожидая, что теперь и остальных членов семьи Михайловых посадят. Начнут с жены Сергея Михайловича, ведь Ванда Эдуардовна Михайлова, в девичестве Розенберг, родом из прибалтийских немецких баронов и родилась в Ревеле (ныне Таллинн). Её земляк – однофамилец, позже повешенный по приговору Нюрнбергского суда, Альфред Розенберг, известный гитлеровский идеолог фашизма. После родителей займутся и детьми.
Бабушка и тетя Сима заставили маму сменить фамилию Михайлова на свою девичью – Власову, и вернуться с мужем к ним, в Арменикенд, благо выписаться еще не успели. Папа уже работал в «Каспморпроекте», и по совету друзей тети Симы, напросился в командировку на реконструкцию причалов Красноводского порта, на время уехал из Баку. Как и предполагали Сима с Ксенией Васильевной, маму его арестовали. Ошиблись только в очередности. После Сергея Михайловича посадили их старшего сына Константина, брата моего папы, геолога управления «Азнефть», а уж потом Ванду Эдуардовну. Ей, как мужу и сыну вменили 58 статью – антисоветизм, и дали 10 лет лагерей без права переписки.
***
Характер у маминой сестры, Серафимы Васильевны – Симы, был вздорный, я уже писал, и, еще до войны, они повздорили, и Сима выгнала моих родителей. Мама, правда, рассказывала, что они сами решили уйти от Симы, и снять квартиру. В городе приемлемого жилья не нашли и сняли две комнаты в старинном двухэтажном доме в дачном пригороде Баку – Амираджанах, куда добирались на электричке. Комнаты были огромными, я гонял по ним на велосипеде.
Очень хорошо помню, как встречали там новый год в ночь с 1940 на 1941 год. Мне позволили не ложиться до полуночи, хотя ни телевизора, ни музыкальных центров в те времена не существовало. Имелся лишь круглый черный бумажный репродуктор. Он известил, когда пришел Новый год в Баку, а через час, под бой кремлевских курантов отметили новый год по-московски. Сколько себя помню, бакинцы всегда встречают новый год дважды. Стояла ёлка, украшенная множеством зеркальных шаров и разных игрушек. За несколько минут до полуночи, на ёлке зажгли свечи. Длинный и так стол, раздвинули, чтобы поместились все гости. Накрывали стол разной вкуснятиной папа и гости. Бутылки с вином, шампанское, оранжевые мандарины, розовые куски осетрины, салаты, маринады, пельмени. Мама, на последних днях беременности, больше лежала или сидела, медленно двигалась по комнате, но за праздничным столом сидела вместе со всеми, поднимала рюмку за новый год. Лица радостные, веселые, полны энтузиазма и уверенности в будущем, поднимали тосты за счастье в новом году. Не ждали страшных испытаний, которые принесет всем новый год.
26 января мама родила брата Олега. В памяти запечатлелось, как мы с папой встречали её на машине «Эмке» из родильного дома, как позже мама эмоционально рассказывала о своих соседках по палате. Я запомнил лишь, что в ночь, когда она родила, роддом в Сураханах побил все рекорды Баку, на свет появились девять детишек. Нянечки и акушерки всю ночь, носились из палаты в палату, шумно шлёпали тапочкам по натертым полам.
Ограничившись справкой из роддома, мама с папой долго не могли выбрать время съездить в Загс, получить Свидетельство о рождении сына. Началась война, они испугались, что оштрафуют, раз не получили вовремя метрику. В роддомовской справке римскую единицу исправили на галочку, получилось пять, и срочно пошли получать метрику, как тогда называли Свидетельство о рождении. Таким образом, брат мой стал на четыре месяца моложе, рожденным не в январе, а в мае. В наше время, месяц в справках пишут прописью. День рождения Олега всю жизнь мы отмечали дважды.
Родители ожидали, я буду ростом в отца – два метра. Но к 19 годам мой рост остановился на 178 см, а к старости даже чуть уменьшился. Почему вспомнил про рост? В детстве, чтобы не возникал спор между кондуктором и родителями, в каждом трамвайном вагоне рядом с вагоновожатым, да и в троллейбусе позже, красовалась нарисованная линейка, по росту ребенка определяли брать ли ему билет. В войну в общественном транспорте Баку бесплатным проездом пользовались дети до семи лет. Я, в пять с половиной лет, перерос отметку, и мама иногда вынуждена была в споре с кондуктором, доказывать, что мне не только семи лет, а шести полных еще нет. Билет стоил три копейки, и споры практически всегда кончались улыбками, и пожеланиями вырасти мне Гулливером.
Годы войны
Папа, инженер – гидротехник работая в Каспморпроекте, с началом войны курировал в Баку строительство новых портовых сооружений для отправки нефтеналивных судов в Астрахань, и ему дали бронь от призыва на фронт.
Когда Олегу по документам исполнилось четыре месяца, маму мобилизовали на работу в Наркомат водных ресурсов, заниматься проектированием новых ирригационных каналов. Москва требовала от Азербайджана расширить посевные площади хлопчатника и других сельскохозяйственных культур. Потребности в них резко возросли, с оккупацией немцами огромных территорий северо – запада России. Нам с братом взяли няню. Мама с папой звали её Андреевной, хотя у неё было имя. Андреевна ухаживала за братом, кормила нас и водила гулять. Меня за руку, Олежку большей частью возила в огромной, как мне казалось, коляске из ивовых прутьев с колесами, в пол моего роста.
С началом войны, Баку наводнили беженцы и переселенцы из оккупированных областей страны. Всех бакинцев «уплотняли», подселяли семьи и одиноких беженцев. Тетя Сима вовремя сообразила, что в её трехкомнатную квартиру, где осталась одна с бабушкой Ксенией Васильевной, подселят чужих людей. Срочно помирилась с моими родителями, уговорила сестру и даже нашу няню Андреевну вернуться к ней. Так наша семья снова оказалась в благоустроенной квартире, в городе. Подселение избежать все равно не удалось. В квартиру поселили молодую пару из Ростова на Дону. Анну и Николая, квалифицированных станочников одного из заводов Ростова, эвакуированных в Баку, с частью заводского оборудования перед оккупацией города немцами. На второй день приезда оба уже работали на заводе имени лейтенанта Шмидта. Часто и ночевали на заводе, когда выполняли срочный заказ. Молодые подселенцы оказались очень милыми людьми и практически не создавали неудобств, быстро подружились с Симой и Ксенией Васильевной, Андреевной. Мама с папой их почти не видели, рано уходили и поздно возвращались. Через несколько месяцев наши войска освободили Ростов и постояльцев, несмотря на противодействие руководства бакинского завода, где нужны были рабочие руки, вернули в Ростов восстанавливать завод. Анна успела прислать Симе одно письмо, а потом немцы снова заняли Ростов, и какова судьба семейной пары не знаем. Скорее всего, погибли.
Новый постоялец, высокий чиновник из геологической службы «Азнефти» был дальним родственником Серебровского – известного организатора нефтедобычи в Азербайджане в 20-е годы, кичился этим, и вёл себя бесцеремонно. Подолгу занимал ванную, не убирал за собой мусор, забывал тушить свет и закрывать на ключи входную дверь. Он прожил до конца войны и вернулся в Грозный разрабатывать новые месторождения нефти. Запомнилось, что в своей комнате на окне, в картонной коробке в кальке, он постоянно держал большой кусок американского маргарина, а я тайком постоянно отрезал по кусочку и съедал, за что попадало от бабушки. Маргарин был вкусный, как сливочное масло, которое я больше помнил по детскому саду, хотя по карточкам мы его немного получали. Весь паек соленого сливочного масла помещался в стеклянную пол-литровую банку. Мама оборачивала её мокрой тряпкой и держала в миске с водой, которую регулярно меняли. Холодильников ведь не было.
Шел 1942-й год, мама работала в Наркомате (по – современному, в Министерстве), как и папа, имела литерные карточки на продукты, обедала в совнаркомовской столовой, жить должны были бы мы прилично. Но почему-то запомнилось, как мама с бабушкой радовались хлебным крошкам, которые изредка приносила нам Андреевна. Её сын работал шофером на хлебовозке, и в конце каждого дня щеточкой аккуратно сгребал накопившиеся в кузове крошки. Они были черными, подгоревшими, но в доме Андреевны из них умудрялись готовить какое-то варево. Моя бабушка перемешивала крошки с дефицитным подсолнечным маслом и жареным луком, добавляла зелень, и мы ели это с мацони. Получался вкусный и сытный завтрак.
Из военных лет запомнились окна, заклеенные газетными полосами крест на крест, на случай если разобьются, чтобы осколки стекол не разлетались по комнате. На ночь на окна опускали синие плотные бумажные шторы, чтобы свет из окон не привлекал внимание летчиков немецких бомбардировщиков. Но не все бакинцы строго придерживались предписания Штаба обороны города, забывали с наступлением темноты опускать шторы. Для борьбы с нарушителями через несколько месяцев после начала войны, в темное время суток стали полностью отключать электричество. Официально объяснили недостатком электроэнергии, круглосуточно работающим заводам. В каждой семье завели коптилки. У нас их было три, в нашей комнате горела всю ночь, у тети Симы, и ее мамы, и на кухне. Кухонной коптилкой, горящей всю ночь, пользовались также при посещении ванной комнаты и туалета. Коптилка представляла собой бутылочку от пектусина, лекарства от кашля, наполненную керосином, в которую вставлялся через специальную трубочку с ободком, фитилек из хлопчатой ткани, свернутой жгутиком. Коптилка на 150—250 мл керосина беспрерывно горела несколько суток. Керосин в доме был всегда. С началом войны часто отключали газ и тогда пищу готовили на керосинках и керогазе, их в доме имелось несколько.
Помню воздушные тревоги, и как дежурные среди ночи стучали в двери, требовали идти в бомбоубежище. Оно было где-то далеко, и мама нас с братом никогда туда не водила. Слава Богу, ни одна бомба на Баку не упала. Залетел на разведку один самолет Юнкерс – 88, и его сбили. Обломки выставили в парке Красной Армии (теперь парк офицеров) напротив Голубой мечети. Меня – детсадовца последней старшей группы, в 1942 или 1943 году водили в парк смотреть обломки самолета. Запомнил на всю жизнь. Огромные черно – белые кресты и свастику.
На второй год войны, папу призвали в армию и через несколько месяцев учебы, присвоив звание лейтенанта, командировали в Иран в город Хорремшехр. Там, с другими советскими инженерами, а позже, и, с прибывшими американскими специалистами, они приступили к подготовке иранского порта, на восточном берегу реки Шатт-эль-Араб, к приему американских судов. Власти США выбрали этот порт, в семидесяти километрах от впадения иранской реки в Персидский залив, для разгрузки гуманитарной и военной помощи СССР по программе Ленд – Лиза. Однажды папа приезжал в командировку в Баку. С ним, во дворе нашего дома несколько дней стояли три огромных новеньких «Студебеккера». Вот привалило радости пацанам нашего и близлежащих кварталов! Шофера – солдаты, соскучившиеся по «гражданке», охотно общались с мальчишками, позволяли лазить по машинам, сидеть в кабинах. Водители ночевали у нас в квартире. Бабушка стелила им на полу в кухне и в коридоре.
Воспоминаний о войне больше грустных. Наш большой, густонаселенных двор, частые похоронки и страшные рыдания, бьющихся в истерике молодых вдов и матерей, лишившихся сына.
Знакомство с деревенской жизнью
Ругаю себя, что не расспросил тётю Симу при жизни, каким образом, в 1943 году, она оказалась, в Ставропольском крае под городом Моздок, директором опытного овощеводческого хозяйства. Название села – Хутор Русский Первый, я вспомнил в девяностые годы, в чеченскую войну. Вспомнил и Терско – Кумский оросительный канал, в котором купался с местными ребятишками летом 1944-го. По своей воли Сима оставила Баку, и поехала в места, разоренные войной, только – что освобожденные от оккупации, или, как позже сказали бы, – партия послала. Тогда был слишком мал, позже другие заботы и проблемы волновали. Об этих детских годах вспомнил, лишь когда решился написать для своих внуков воспоминания.
Из тех лет помню только, что в январе 1944-го, Сима вернулась в Баку, одна или с кем – то еще, – не помню. Приехала за деталями для двух тракторов, в её хозяйстве, и семенами. Перед отъездом убедила маму разрешить ей и меня забрать с собой. Объясняла, что облегчит жизнь оставшимся, им останется моя продовольственная карточка. В селе, почему-то названном хутором, есть начальная школа. И с третьей четверти пойду туда учиться. На свежем воздухе закалюсь, поправлюсь. С едой не будет проблем, она ведь директор большого овощеводческого хозяйства, которое правильнее бы назвать совхозом. Дом её, слегка разрушенный войной, полностью восстановлен, вокруг большой фруктовый сад. Уговорила, и мама, скрепя сердцем, впервые рассталась со мной на неопределенное время.
В январе 44-го не вся еще советская территория была освобождена от немецкой оккупации, но по всем признакам чувствовалось, Победа скоро. Как мы добирались, в памяти не сохранилось. Отчетливо помню лишь лежащую на земле, длинную, а когда-то высокую водонапорную башню на железнодорожной станции Моздок.
В школу я пришел в конце января. Среди учеников, в классе, было много переростков. Три года войны школа не работала. Меня встретили настороженно и с любопытством, – из города, мама самый главный человек в селе. Реально, главнее председателя сельсовета. Даже учителя не сразу разобрались, что Серафима Васильевна мне тётя.
От дома до школы было километра два, думаю. Первые дни меня подвозил на двухколесной пролетке Симин кучер, или она сама правила лошадью. Ни легковой, ни грузовой автомашины, в хозяйстве не имелось. Грузы перевозились лошадьми или быками. Недели через две Сима уже отправляла меня в школу одного пешком, по главной и единственной улице села. Когда наступила весна, поднялись травы и появились первые цветы, мне больше нравилось возвращаться из школы не по улице, через село, а полем, отдыхая, и, собирая цветы, выискивая в траве птичьи гнезда. В саду у нас тоже были гнезда. Птицы свили десятка два гнезд на деревьях, часто так низко, что можно было заглянуть в них без лестницы. Для меня, городского мальчишки, всё было в диковинку, я лазил к гнездам, считал, где сколько яичек отложено, позже вынимал подросших птенцов, играл с ними. После моего вторжения некоторые птички уже не возвращались к своим гнездам. Бросали насиженные яйца, только-что вылупившихся птенцов. Сима целыми днями пропадала на работе, и я практически был предоставлен сам себе, часто приходили пацаны – сверстники. Мы вместе разоряли птичьи гнезда. Кроме иволги. Эта желтая птица нравилась нам. Когда почти все гнезда в саду были разорены, нас, наконец, остановила соседка, днем случайно оказавшаяся во дворе, и пожаловалась Симе. Тетя Сима, которую я продолжал называть просто Симой, прочитала нам длинную нотацию, пригрозила, если узнает, что продолжаем разорять гнезда, выпорет офицерским ремнем. Весной у Симы появился хромой мужчина, интеллигентного вида, с тросточкой, и офицерский ремень. Я уже писал, Сима была любвеобильной женщиной, и за девять месяцев, что я жил с ней в селе, мужчин в доме перебывало не меньше трех – четырех. Оно и, понятно, в ту пору ей шел сорок первый год, пик женской сексуальности.
С приближением весны, работы на тётю Симу, навалилось на все двадцати четыре часа. Посевные заботы, высадка в грунт рассады овощей, ремонт и поиски запчастей для постоянно ломающихся обоих «фордзонов», а еще прибавилось весеннее обострение любовных страстей. На меня совсем не оставалось времени. Накормить, поинтересоваться, как дела в школе, если еще и удавалось, то помыть, искупать, используя ведра и тазики, руки не доходили по две недели.
Как-то отправила меня с соседкой тетей Таней в ее баню. Баня – одно название, небольшое деревянное строение с кирпичной печью и несколькими вертикально стоящими деревянными бочками – кадушками. Воду разогревали булыжниками, которые накаляли в печи, а затем, с помощью огромных щипцов и совка, бросали в кадушку. Раздавался взрыв, в воздух поднималось облако пара, какое-то время ничего не было видно.
Первое посещение деревенской бани запомнилось дикой жарой, голой молодой женщиной, которая временами скрывалась за густыми клубами пара. Уроками тети Тани, как позже понял, сексуально озабоченной одинокой женщины. Думаю, она была учительницей, но не в нашем классе. Видел её в школе. Смывая с меня двух недельную грязь, она больно терла мочалкой все части моего тела, особенно между ног, что-то приговаривала при этом, и смеялась. Воспитанный на бакинской русской литературной речи, я не полностью понимал её местный диалект. Она окатывала меня ковшиком из бочки с горячей водой, затем ледяной, я дрожал и дико кричал. Она смеялась и объясняла, для здоровья такая экзекуция полезна.
Ни с того, ни с сего, неожиданно вспомнила, родители девочек в школе, ей жаловались, мальчишки часто подсматривают за ними в туалете, и громко обсуждают половые отличия. Спросила, участвовал ли я в этих бесстыдствах. Объяснил, что еще в детском саду, во время купаний, сто раз всё видел, и давно знаю, чем отличается девочка от мальчика. Мне это не интересно. У девчонок продолговатая щелка, где у мальчишек отросточек с мешочком, и я показал на себе.
– Да ты, оказывается, все знаешь, – удивилась тетя Таня.
– А знаешь, откуда появляются дети? – продолжила она разговор.
– Из маминого животика, – пояснил я. – Она опять рассмеялась, продолжая мыть голову.
Пока я продолжал самостоятельно мыться, хозяйка бани легла навзничь на широкую лавку, и попросила потереть мочалкой спину, поливая водой из ковшика. Я испытывал неловкость. Стеснялся голой женщины, она несколько раз повторила:
– Не слышишь? Так распарился?
Пришлось подойти и потереть.
Она перевернулась на спину, а меня отправила продолжать самостоятельно плескаться, обливаться водой, какая мне больше нравится. Конечно, дома под душем, намного удобнее и приятнее наслаждение, но с лейкой душа требовалось обращаться аккуратнее, чтобы вода не лилась мимо ванной, на пол. Здесь же, можно плескаться, брызгаться, вода стекает по канавке прямо на улицу.
Я еще вдоволь не наигрался с ковшиками и водой, не набрызгался, как тетя Таня опять позвала. Увидев её, лежащей на спине, с раздвинутыми ногами, я растерялся, какая еще помощь потребуется от меня? Не решался подойти. Она повторила приказным тоном, и я подошел. Неожиданно она взяла мою ручонку, и сквозь кустик густых волос внизу живота, принялась засовывать её себе в промежность.
– Пощупай. Вот из этой щелки, как ты назвал, – пиз… – она назвала ругательное слово, которое я и сейчас не позволю себе употребить, – и выходят дети.
Представить, как может ребеночек протиснуться сквозь такое узкое отверстие, я не мог. Спросить не решился, стыдился смотреть на тетю Таню. А она продолжала двигать мою руку. Мне было не по себе. Сегодня, десятилетия спустя, не могу передать, что я чувствовал. Помню только, было противно. А потом… Самое интересное, в тот момент я почувствовал жжение ниже живота, мой отросточек отвердел и выпрямился. Что это за реакция, я узнал позднее. Пытался выдернуть свою руку, а тетя Таня смеялась, сжимала ноги, и не отпускала. Несмотря на сопротивление, я все-таки высвободил руку, отошел, и принялся готовить себе новую порцию воды в тазике для обливания. Хозяйка продолжала лежать, с раздвинутыми ногами и пальцами что-то выискивала в кустике волос. Занималась этим довольно долго, несколько раз ахнула, дернулась, напугала меня. Через много лет, когда нашему поколению стали доступны эротические фильмы, я вдруг вспомнил этот эпизод из далекого детства. Тетя Таня мастурбировала. Во время войны проблема женского либидо стояла остро.
Лето в деревне – нескончаемый праздник. Купание в канале, черешни, абрикосы, потом вишни и груши, всё можно рвать в саду у дома, и есть, сколько хочешь. Никогда раньше и позже, я не имел возможности, есть столько фруктов и прямо с дерева. Потом пошли дыни и арбузы. И еще, чем запомнилось лето – свободой. Тетю Симу я видел лишь ранним утром и поздним вечером, весь день был предоставлен самому себе. С пацанами ловил рыбу, бродил по полям и огородам, крутился на мехдворе, где несколько мужиков – инвалидов копались в сохранившихся деталях какой-то сельскохозяйственной техники, переделывали их для работы на току.
Нарушая категорический запрет тети Симы, бегал с пацанами на места, где год назад гремели бои. Отыскивали остатки окопов, собирали гильзы от снарядов, поднимали разные железки. Однажды нашли настоящую гранату. Я принес из дома спички, пацаны постарше разожгли костер. Потом все мы убежали от костра, укрылись за бугорком и кинули гранату в огонь. Раздался взрыв. Вечером мне довелось испытать офицерского ремня.
Несмотря на все вольности деревенской жизни, сказочное, по военным временам, питание, свободу, доброе отношение ко мне местных пацанов, и заботу Симы, я постоянно ощущал отсутствие мамы и родительской ласки. Особенно остро это чувство проступило с наступлением осени, первых холодов и дождливых дней. Сима любила меня как сына, баловала во всем, и все – таки не заменяла восьмилетнему мальчишке маму. К тому же, жизнь с ведром вместо унитаза, мытье из тазика вместо ванной с душем, начинали надоедать, желание вернуться к маме, в городскую квартиру, к жизни, к которой успел привыкнуть за семь лет, все больше занимало мои мысли. Раз – два в месяц я посылал маме открытки с коротким текстом, описывал свою жизнь, в семи строчках делая не меньше дюжины ошибок. Что вы хотите от ученика первого класса сельской школы! Мамин почерк я разбирал с трудом, она писала почти каллиграфически, а я хорошо понимал только печатные буквы. Мамины открытки мы читали всегда вместе с Симой. Переписывались почему-то на открытках, желто – серый прямоугольник жесткой бумаги с напечатанной маркой – колхозницей за 20 копеек, красного цвета. Почему писали на открытках, а не в конвертах, не задумывался. Позже догадался – облегчали работу цензоров. С начала войны вся корреспонденция прочитывалась военными цензорами, они вымарывали черными чернилами всё, что могло представить интерес нашим врагам. Письма с фронта приходили на тетрадных листках, сложенных треугольником, с печатью «проверено цензурой». Сима получала служебную почту с нарочным, приезжающим из Моздока на двуколке.
В начале октября, в очередном послании маме, я написал, «мама, забери меня домой, мне здесь очень плохо». Открытка эта сохранилась до сегодняшнего дня. В военное время, в 1944 году, взять билет на поезд и поехать куда-то не разрешалось. Необходимо было получить пропуск, который выдавали лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Болезнь, смерть близкого человека таким обстоятельством не считалась. Шла война, не время праздных путешествий. Мама занимала всего лишь должность инженера, руководителя проекта, но работала в очень солидной организации – Совнаркоме республики, (По – современному, в Совете министров Азербайджана) и пропуск на поездку в Моздок, забрать меня, получила. Даже из Баку, далеко находящемуся от линии фронта, поезда ходили не по стабильному расписанию, а составленному от суток до двух недель. Постоянно нарушаемому воинскими эшелонами, в сторону запада, отправляемыми в первую очередь. Как маму встретила Сима, не помню. Не помню и деталей отъезда. Вспоминаю только, что по пути в Баку, несколько дней мы с мамой жили в Пятигорске. Я был поражен горячей водой, бежавшей по бетонному желобу из нагорной части города. Мама сказала, в этой воде можно сварить яйца всмятку. Яйца были в дефиците, и проверить не представилось возможным. Остановились в каком-то казенном помещение, где одна комната была завалена репчатым луком, в другой стояли металлические бочки с подсолнечным маслом. С едой была напряженка, и, чтобы как-то утолить голод, мама несколько раз в день жарила лук на масле. Мне такая еда нравилась, и с тех пор на всю жизнь полюбил румяный, поджаренный на натуральном подсолнечном масле, лук. Еще в памяти осталось стояние на остановке в холодный осенний день в ожидании машины в Нальчике. Очевидно, поезд в Баку шел оттуда. Не спросил маму или тетку в свое время.
В вагон втиснулись с трудом. В нем не было и сантиметра свободной площади. На вторых и третьих – верхних багажных полках, лежали люди. Нижние полки сидя занимали по три – четыре человека, тесно прижавшись друг к другу. На полу и в проходах тоже сидели и лежали. В одном отсеке (теперь называют купе) люди потеснились, на одну лавку мама села четвертой, на другую посадили меня. Так и ехали около двух суток, одну ночь точно. Ночью одна из теток, занявшая вторую боковую полку, сжалилась надо мной и позвала лечь рядом на полке. Мама не сразу разрешила, опасаясь, что свалюсь с высоты.
В старых вагонах стоп – краны стояли тогда почти в каждом купе. И вот я, восьмилетний пацан, взбираясь на вторую полку, по незнанию ухватился за красный рычаг стоп-крана. Раздалось шипение, поезд начал тормозить и вскоре на несколько секунд остановился. С одной из полок подскочил мужик, схватил мою руку, прижал больно, и вместе с ней, вернул рычаг крана в исходное положение. Поезд стал набирать скорость. Моих детских силенок не хватило полностью повернуть кран и остановить поезд.
Народ долго возмущался, продолжая материть маму, женщину, со второй полки, позвавшую меня, дурачка, не знавшего, что красный рычаг предназначен для экстренной остановки поезда. Ругавшие маму активисты, были глупее меня, предполагая, если наш вагон остановился бы, следующие вагоны натолкнулись на него, и перевернулись. Произошла бы катастрофа. В свои 8 лет, я знал, этого не может произойти, торможение происходит одновременно всех вагонов, соединенных в единую тормозную систему.
Через какое-то время в вагон вошла делегация поездного начальства: начальник поезда, два милиционеры, несколько энкэвэдэшников в кожаных тужурках и кепках, как в кино. Продолжаю теряться в догадках, как вычислили вагон и кран, который дернули. Скорее всего, кто-то донес. Маму заставили предъявить документы, пропуска на себя и меня. Второго пропуска, естественно, не имелось. Спасительную роль сыграло мамино удостоверение работника совнаркома Азербайджана. Поездная бригада была из Баку, и всё закончилось составление акта с подписями свидетелей происшествия и угрозой, что в Баку НКВД разберется, случайно ли я дернул кран или преднамеренно, чтобы нарушить расписание, движение воинских составов. Мама пила таблетки, и ждала кары в Баку. Соседи по отсеку очень напугали её, объясняя, какое это преступление, в военное время пытаться остановить поезд, нарушить движение поездов на линии снабжения фронта нефтепродуктами из Баку. Мама плакала.
К счастью, происшествие закончилось без последствий. Маму даже не вызывали в НКВД. На работу к ней пришел сотрудник, расспросил подробности, записал, мама расписалась и больше её не трогали
***
В Баку, я вернулся в свою школу №42, во второй класс и успел к знаменательному событию в жизни каждого советского школьника. Класс готовился к торжественной линейке, где всех нас должны были принять в пионеры.
Принимали сразу всем классом, было нам по восемь лет, согласия никто не спрашивал. Это в хрущевские и последующие времена, родители по религиозным или каким-то другим соображениям, могли не позволить ребенку стать пионером. Решились бы родители ребенка в 1944 году отказаться от красного галстука! Живо отправили бы далеко за Урал.
Мы выстроились в линейку в длинном школьном коридоре, старшеклассники – комсомольцы торжественно внесли знамя, не помню какое, скорее всего, школьное, и каждый из нас перед знаменем произнес клятву: «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что буду твердо стоять за дело Ленина – Сталина, за победу коммунизма», и так далее. Затем комсомольцы каждому повязали красный галстук, старшеклассники забили в барабаны, затрубили в горны, красивая девушка из райкома комсомола, отдавая честь у знамени, торжественно провозгласила: «Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!»
– «Всегда готовы!» – хором ответили мы, и запели, отрепетированное заранее:
Мы – пионеры Родины великой,
Заботой Партии всегда окружены,
Мы скажем все – горячее «Спасибо!»
Родному Сталину, вожатому страны!
Первые послевоенные годы
В 1945 году мне было уже 9 лет, и многое отчетливо сохранилось в памяти. Прежде всего, два салюта. 1 мая и 9 мая. Позже я много раз смотрел салют с Бульвара, из парка Кирова, но такого потрясающего зрелища, как в День Победы сорок пятого, больше не видел.
Помню раннее утро 9 мая. Всех нас разбудила громкая, на весь двор, музыка, громкие крики людей, вышедших во двор. Кто плакал, кто смеялся, все были возбуждены.
С началом войны все радиоприемники и радиолы у населения изъяли. В последние дни апреля 45-го, их вернули владельцам, и теперь они гремели на весь двор и улицу.
Всю войну мы продолжали жить в Арменикенде, на Верхнее – Бульварной улице, в 223 – м квартале, в котором в послевоенные годы, с отменой карточной системы, заработал ресторан «Мугань». В 60 – 70-ые годы, со стороны проспекта Ленина, пристроили башню – высотку отеля с тем же именем. Название Ленинского проспекта заменили на проспект Свободы – Азадлыг. Долгое время с фасадной части нашего квартала пустовало помещение бывшего магазина, в котором, мы дети, играли в прятки. Потом там разместились пожарные со своими красными автомобилями. Позже пожарников сменили продовольственный, а затем промтоварный магазины.
Репрессированные в 1937 году, отец моего папы Сергей Михайлович и старший брат Костя, сгинули безвестно в сталинских лагерях. Мама отца, Ванда Эдуардовна, благодаря знаниям основ медицины, полученным в Институте благородных девиц, выжила в казахстанских лагерях, и в 1950 году вернулась в Баку, узнала, кто состряпал донос на её семью.
Оказалось, их квартира приглянулась соседу, невысокого ранга сотруднику НКВД. Он и организовал «антисоветские настроения бывшим дворянам». Отправил в места не столь отдаленные, и захватил квартиру. Поиски справедливости, по возвращению из лагеря, для Ванды Эдуардовны закончились получением предписания в 24 часа покинуть Баку, «вспомнили», что бывшие осужденные по 58 статье, не могут жить в столицах. А где жить, не стали утруждать себя проблемой. Такова история моих бабушки и дедушки. Похожая на миллионы судеб интеллигенции, да не только интеллигентов, а также рабочих и крестьян. В сталинские годы, если ты, во что бы то ни стало, желал продвинуться по службе, захватить чью-то собственность, достаточно было написали донос, что гражданин такой-то высказывает недовольство, ведет антисоветские разговоры. Брата мамы и Симы – Анатолия, инженера одного из московских заводов, отправили на Колыму, за фразу «Попробовали бы в Америке на неделю задержать зарплату рабочим».
После смерти Сталина, Ванда Эдуардовна вернулась в Баку. В доме имелось пианино, и она давала уроки пения студенткам Консерватории. Нерегулярно посещала службы в православном храме, хотя по крещению лютеранка. Написала брату в Нью – Йорк, и он несколько раз присылал посылки с очень любимым ею «настоящим» кофе. Папа с мамой протестовали против её контактов, боялись за свою судьбу и карьеру, и были правы. «Компетентные органы» каждую посылку проверяли и половину присланного конфисковывали. Ванду Эдуардовну предупреждали, если не прекратит переписку, отправится вновь в места, откуда недавно вернулась. Бабушка, закаленная годами лагерей, опытом общения с «компетентными», принародно посылала их нецензурными словами на три и пять букв. Воспитанница института благородных девиц, получившая дополнительное лагерное образование, так её доставали! И продолжала переписку с братом, не обращая внимания на запугивания, до самой своей смерти в 1959 году, в 89 лет. Брат Ванды Эдуардовны (Петр или Николай – имя, если называли, не запомнил), в 1925 году, с женой, эмигрировавший в Америку, был старше, и судьба его не известна. В 80-е годы я написал по его адресу на конверте 1925 года, с надеждой найти следы, но безрезультатно. Другой брат, Эрик Эдуардович, дослужился до полковника Российской Императорской Армии, о нем тоже ничего не известно.