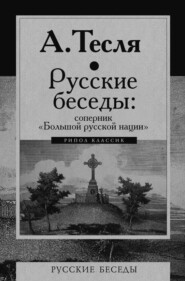скачать книгу бесплатно
Русские беседы: соперник «Большой русской нации»
Андрей Александрович Тесля
Русские беседы
Русский XIX век значим для нас сегодняшних по меньшей мере тем, что именно в это время – в спорах и беседах, во взаимном понимании или непонимании – выработался тот общественный язык и та система образов и представлений, которыми мы, вольно или невольно, к счастью или во вред себе, продолжаем пользоваться по сей день. Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России – то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое.
XIX век справедливо называют веком «национализмов» – и Российская империя является частью этого общеевропейского процесса. В книге собраны очерки, посвященные, с одной стороны, теоретическим вопросам модерного национализма, с другой – истории формирования и развития украинского национального движения в XIX – начале XX века. Последнее является тем более интересным и значимым с исторической точки зрения, что позволяет увидеть сложность процессов нациестроительства на пересечении ряда имперских пространств, конкуренции между различными национальными проектами и их взаимодействия и противостояния с имперским целым.
Автор сборника – ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук Б ФУ им. Канта (Калининград), кандидат философских наук Андрей Александрович Тесля.
Андрей Тесля
Русские беседы: соперник «Большой русской нации»
Рецензент – главный редактор журнала «Полития», профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор политических наук С. И. Каспэ
© Тесля А. А., 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Предисловие
XIX век зачастую называют «веком наций», хотя точнее было бы говорить о «веке национализмов»: преобладающими политическими телами в это время как в Европе, так и особенно наглядно за ее пределами были империи – национальных государств в собственном смысле было немного, и число их не слишком значительно увеличилось к концу века по сравнению с его началом. Но вместе с тем за это столетие ситуация радикально изменилась в своих основаниях – так что уже в XX веке мы можем наблюдать множество национальных государств или государств, стремящихся (в той или иной степени, прикладывая разные усилия с разным эффектом) стать таковыми. XIX век видел два масштабных примера образования государств, реализующих национальные проекты, – Итальянское королевство (1859–1870) и Германский рейх (1860–1871). В остальных случаях национальные движения, более или менее активные, были значительной, но отнюдь не преобладающей силой: на исходе столетия и в начале нового многие наблюдатели сомневались, что путь образования национальных государств может стать преобладающим – на нем стояло слишком много препятствий, начиная с привычных порядков и традиционных имперских иерархий, судьба которых в новом мире не представлялась однозначной, и вплоть до сложившихся связей – политических, экономических, культурных и т. д., не укладывавшихся в пределы каких-либо воображаемых гомогенных национальных сообществ. Вопрос, который обсуждался все чаще, был отнюдь не о выборе по модели «либо/либо», а о том, как совместить национальные запросы с существующими порядками, о способах взаимодействия и сосуществования с национализмами – поскольку во второй половине XIX в. для всех было очевидно, что национальные движения уже превратились или, в других регионах, способны к превращению во влиятельную силу: ее невозможно было игнорировать, ее невозможно было подавить – стало быть, единственным вариантом оставалось взаимодействие. Национализмов всегда много – на одну и ту же территорию, на одних и тех же людей претендуют различные национальные проекты, разные национализмы взывают к лояльности той нации, существование которой они провозглашают. В этом смысле важно осознавать, что каждый победивший национальный проект не только несет в себе историю своего восхождения, но и те проекты, что оказались оставлены, будучи неспособны вовлечь достаточное число интеллектуалов, мобилизовать массы, – редко исчезают без остатка: между нами всегда есть «спящие национализмы» – модели сборки политических сообществ, которые не актуализированы в данный момент, но остаются способны при определенных условиях, в ситуации распада существующего политического порядка, стать привлекательными альтернативами.
Сборник, который вы держите в руках, состоит из двух основных частей – в первой, относительно небольшой по объему, собраны статьи последних лет, посвященные различным более или менее теоретическим аспектам истории национализмов. Вторая, основная часть сборника, построенная по хронологическому принципу, объединяет статьи, посвященные ранней истории модерного украинского национализма. Интерес последней темы, помимо, увы, непосредственной политической актуальности, которую она имеет в последние годы, состоит в том, что позволяет увидеть, как формируется, довольно типическим для Восточной Европы образом, национальное движение – в переплетении разнообразных социальных и интеллектуальных воздействий, с политической повесткой, которая во многом закрыта или, по крайней мере, лишена определенности для большинства его участников. Важно то, что «национализм» – это всегда определенный язык, способ промысливать и проговаривать ситуацию – и ранняя история национализма тем в особенности и интересна, что позволяет наблюдать, как этот конкретный язык складывается, как вырабатывается система понятий и образов, которые в дальнейшем не будут детерминировать, разумеется, его историю, но будут определять диапазон возможностей – в том числе возможностей политического действия.
Вместо введения
1. Об отсутствующем
«Русский мир», с которым или за который сражаются (преимущественно виртуально), о (возрождении которого много говорят – одни опасаясь, другие желая, третьи с иронией, – крайне интересная фигура речи, которая заменила хорошо известный по втор, пол. XIX – нач. XX в. «славянский мир».
И в том и в другом случае – это обозначение некоей реальности, значение которой преимущественно в будущем: нынешнее состояние значимо лишь в той мере, в какой оно позволяет обосновать образ грядущего, отстоять реальность своих надежд или сомнений. Путешественники XIX в., объезжавшие Балканы или назначавшие рандеву во Львове-Лемберге, подхватывали любой намек на «славянскую взаимность» и отбрасывали ему противоречащее – не заблуждаясь, ничуть, не искажая фактов, а интерпретируя, – что делаем мы всегда, поскольку любой факт существует лишь в определенной системе: для них эти черты «славянского возрождения» обладали значением в перспективе будущего, как ростки новой реальности, тогда как «иное» трактовалось как препятствия, стоящие на его пути: то, что способно погубить эту перспективу или замедлить движение, исказить его смысл и т. д.
«Славянский мир» выступал для многих как перспектива роста Российской империи – ее ресурс, ее зона влияния, ее «историческое призвание». Для других он был альтернативой – надеждой на юго-славянскую федерацию, на «славянскую Австрию» и т. п., нечто способное стать альтернативой выбору между «германским миром» и «русским», между тем, чтобы потерять надежду на «национальное возрождение» или, ради последнего, вступить в союз с «северной деспотией». В этом случае «славянский мир» оказывался способом ускользнуть от необходимости выбирать между национальной самостоятельностью и свободой.
«Русский мир» возник катастрофически быстро – когда кто в 1989, кто в 1990, кто в 1991 внезапно осознал, что он «русский» и при этом больше не живет в России – не живет не в силу собственного выбора, а по обстоятельствам – он/она не выбирали этого, они жили в одном государстве, которое, хотя и со своими сложностями в отношениях, в конце концов определило себя как преемника Российской империи.
«Государство» и «мир» больше не совпадали. Разумеется, можно сказать, что они не совпадали и ранее, но ранее это несовпадение было легко игнорировать, оно проявлялось эпизодически. Равно как в исторический опыт не входил опыт «русского мира» в Харбине или Шанхае 1920—1930-х годов, русские кварталы Софии и Праги. А в тех случаях, когда этот опыт оказывался в границах сознания, он определялся – и, что особенно важно, не только во взгляде «изнутри советских границ», но и в рамках само-описаний, по крайней мере тех, которые были слышнее всего – как ненормальное состояние, беда или трагедия – в зависимости от того, какой финал предполагался: безысходной катастрофы или конечного примирения-покаяния-возвращения.
Однако у всех этих разговоров о «Русском мире», то разгорающихся с начала 90-х, то почти сходящих на нет, было несколько особенностей. Во-первых, почти не слышны были голоса самого «Русского мира» – о нем говорили преимущественно те, кто остался в совпадении «русского» и «государственного», где неполнота – это скорее неполнота государства. Во-вторых, этому «Русскому миру» не хватало именно «русскости» – там, где он манифестировал себя, он проявлялся скорее как остаток «советского», возможность видеть ту самую «новую историческую общность», по поводу которой в свое время столько иронизировали, – «советский народ». Если Союз с течением времени вполне сжился со своим статусом наследника Российской империи, то произошло и обратное – «советский народ» стал другим вариантом «имперской нации», той «большой русской нации», проект которой революция 1917 г. разбила на «русских» (бывших «великоруссов»), «украинцев» (бывших «малороссов») и «белорусов» (бывших «белоруссов»).
Проблема в том, что за пределами этих обломков «советского» «Русский мир» оказался практически неуловим. Можно сколь угодно долго говорить о достижениях русской культуры и искусства, перебирая всем известные или, если угодно, малоизвестные имена, говорить о мировом значении русской литературы и роли русского авангарда, а можно о пермской деревянной скульптуре, можно вспоминать о Толстом и Достоевском, а можно анализировать Серегея Дурылина и Николая Страхова. Все это верно, только из этого никоим образом не вытекает желание принадлежать к «Русскому миру», он не становится от этого привлекательнее или реальнее. Ведь то, что называют «миром», к чему принадлежат или желают принадлежать, – это способы проживания жизни, быт. На этом именно уровне «Русский мир» оказывается отсутствующим – его практически невозможно увидеть, к нему сложно принадлежать при всем желании, поскольку формы, которые он может предложить и которые предъявляются вовне, – формы музейные или фальшивые, как крепкие профессионалы, исполняющие «русские народные песни».
Иными словами, здесь нет образа жизни – и нет образа целого, – который был бы привлекателен для многих. Им невозможно соблазнить, им невозможно увлечь, поскольку есть «фактическая жизнь», то, как «живется», так, как «сложилось», – лишенная мечты, которую можно опознать на бытовом, повседневном уровне: не башен Кремля и не орудийного салюта, а устройства жизни, не экстремального, а обыденного.
Правда, остается еще сила – но она может или соблазнять, или пугать. Впрочем, если говорить о наших реалиях, то в большинстве случаев Россия достаточно сильна именно для того, чтобы напугать окружающих, побуждая идти на все, ища защиты от нее, – и слишком слаба, чтобы привлекать кого бы то ни было, если только у него еще есть выбор. Слишком слабая, чтобы привлечь, – и достаточно сильная, чтобы оттолкнуть. «Русский мир» в своей реальности работает как угроза, не принося ничего тем, кто к нему принадлежит, и последовательно сокращаясь, по мере того как выстраиваются новые образы и реалии, а он так и остается лишь указанием на пустое место, которое могло бы быть чем-то заполнено: место, оставленное советским, как постиндустриальный пейзаж.
Над казаками или над паломниками, выстаивающими многочасовые очереди, чтобы поклониться святыне, или над участниками крестных ходов в новостройках можно издеваться и долго изощрять свое остроумие. Что не отменит одного – все эти практики пытаются создать бытовое измерение тому, что обозначается как «Русский мир».
2. Двенадцать тезисов о «русском мире» в позапрошлом веке
1. Позднесредневековый «мир» вписывает в универсальную рамку
Позднесредневековая концепция «отечества» двойственна – это ближнее, локальное пространство (от «северщины» до «тутошних») и принадлежности к «большому отечеству» («хрестиане», «крестьяне», «крещеный народ»). В этой оптике утверждается «мировой центр» и принадлежность к нему: к «Святой Руси», «русской/русько! земле», православному царству. При этом «Святая Русь» не совпадает ни с одним политическим субъектом – последние претендуют выражать таковое, приближаются/ удаляются от него.
2. «Синопсис» фиксирует появление «Руси» как нового объекта политической лояльности – этно-династическое единство
«Синопсис» (1674) фиксирует важный переход – появление нового объекта лояльности (подобный переход фиксируется в польском случае полутора столетиями ранее, XVI–XVII вв.): «Русь» здесь оказывается и династическим достоянием (характерно, что «Синопсис» игнорирует смену династии, непосредственно объединяя Рюриковичей и Романовых вслед за московской политикой «дедичного» обладания, утверждаемого с конца 1610-х годов), и одновременно – единым целым, некой реальной общностью, которая и является наследственным достоянием. «Русь» здесь увязывается с Московским царством: чуть ранее происходит характерная конкретизация царского титула – на смену сакральному «Царь всея Руси» после Переяславской рады приходит политически притязательный и одновременно уточненный титул «… Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец».
3. «Мир» тождественен особому порядку, тем самым вводя множественность порядков
Особый «мир» (романский, германский и т. д.) – это новое вписывание в мир, в рамках пред- и собственно романтического поворота, начиная с Гердера (1770-е), сменяющее и взаимодействующее с религиозным порядком, который предполагает единство и единственность мира. Вместо прежних групп в рамках сакральной общности («христианского мира») утверждается множественность «миров», что было бы парадоксально, если бы доводилось до предела в подобном виде, поскольку каждый из «миров» предполагает наличие своего nomos а, своего порядка/смысла (и тем самым вводилась бы несоизмеримость порядков, что прозвучит вполне отчетливо только по еле 1918 г.).
4. Новые [культурные] «миры» предстают способом иерархического упорядочивания единого «мира»
Диалектика «единого» и «многого» работает через иерархическое упорядочивание: «славянский», «русский» или «германский мир» – «миры» в относительном смысле – «мир» здесь синонимичен здешнему, посюстороннему центру «Божьего Мира»: он ближе всего к осуществлению последнего, точнее/полнее выражает его, находит – по сравнению с другими, предшествующими, новое, более совершенное слово, образ, действие. Например, у Мицкевича «славянский мир» явится меньшим, беднейшим, отверженным среди народов Христианского Мира (Pax Christiana), и Польша станет Христом среди народов, поругаемая, распятая, похороненная, но не умершая, чье возрождение станет возрождением Христианского Мира, славянские народы, последние среди народов Христианского Мира, станут первыми, призванными на пир, явив христианский способ сосуществования народов, воплотив то, что для других оставалось только неясным мечтанием, «идеалом» в смысле противоположности «реальности», того, что надлежит отбросить, но вместе с чем отбрасывалось само христианство, «слишком хорошее для этого мира». Аналогично у московских славянофилов уже русскому народу была предназначена участь быть носителем христианских идеалов общежития, воплощая в своей безгосударственности стремление к высшей, внутренней свободе (отвергая соблазн свободы внешней).
5. Старая и новая логика «миров» выступает как переход от иерархии к обоснованию через противоположность
Новые «миры» – в движении с середины XIX к началу XX века – выходят из этой логики иерархии, утверждаясь в своей «отличности»: обоснованием их существования становится наличие «другого», обладающего несомненной фактичностью. Здесь заметно, как на смену логике религиозной приходит логика политического: если в первом случае ключевым является соотношение со всеобщим («Христианским миром» – наличным, «православным», «католическим» – или иным, истинным, чаемым, миром «Третьего Завета»), то теперь основную роль играет размежевание с другим: реальность «славянского» мира задается его отличием от «германского», не предполагая обязательного включения того и другого в некую высшую общность.
6. «Мир» выступает «несовершенным», но наиболее близким из наличного приближением к совершенству
Прежняя логика оставалась в платоновской традиции, выстраивая иерархию сущего, причем так, что каждая следующая ступень (логически) включает предыдущую, восходя к Благу/Богу. Отсюда отличие (и недостаток) иного – в его неполноте, не в том, что он утверждает, а в том, что это утверждение одностороннее – и именно в этой односторонности ложным (наиболее известный образчик такого рода рассуждения в отечественной традиции: «Критика отвлеченных начал» Вл. Соловьева). Ход к новому и одновременное сохранение памяти о прежнем – «Россия и Европа» Данилевского, где каждый «культурноисторический тип» автономен, чтобы тем не менее завершиться в «славянском», «четырехсоставном», образе высшего совершенства, идеале человеческого общежития (и в то же время – идеале эксклюзивном, поскольку инкорпорирование в него иных возможно лишь в логике господства).
7. В рамках новой логики, напротив, «отличие», «противопоставление» другому автономизируются, обретают самостоятельную ценность
Новая логика не предполагает обязательного инкорпорирования иной реальности – тем самым новые «миры» утверждаются уже именно в качестве миров: «иное» в этой перспективе утверждается именно в своей инаковости, противостоянии обладающему позитивной ценностью – восстанавливая бинарное размежевание на свет/тьму, добро/зло, истину/ложь, но теперь уже в плане имманентности (делая необязательным трансцендентализм прежней логики – утверждение трансцендентного основания возможно, но не обязательно, работает как отсылка к прежней схеме, позволяя задействовать и ее ресурсы, не принимая на себя соответствующих обязательств). Позитивное в данном случае отождествляется с реальностью «мира», а негатив – ситуативен (что делает достаточно подвижными характеристики позитивного, поскольку таковые есть то, что отличает от «иного»: иерархия подвижна, так как конституирована не характеристиками центра, а обозначением его «топоса» – этот объект позитивен, независимо от того, как именно он будет описан).
При этом ресурсы прежнего разграничения используются в новом, с измененным основанием: поляк теперь католик, потому что он поляк, «русская вера» истинна, поскольку она русская, а не потому Русь является Святой, что хранит истинную веру.
8. Функция «мира» – выход за границы существующего политического порядка
«Мир» – проективен («католический мир», «германский мир», «русский мир», «славянский мир»). Он выходит за границы существующих политических общностей и предполагает конверсию языковой/культурной/религиозной общности – в политическую, наделение новым значением: политическую мобилизацию того, что ранее не обладало функцией политического разграничения (принадлежности/непринадлежности к этому «миру»).
В этом отношении всякий разговор о «мире» имеет политическую составляющую – вопрос не в ней, а в возможности осуществить политическую мобилизацию на этом основании.
9. Двойное прямое значение «мира»: (1) империя в наступлении и (2) империя в отступлении
В первом случае «мир» – это пространство экспансии, воображаемое «свое-чужое». Во втором – это то, что осталось «имперским» за пределами границы империи.
Имперская граница по определению временна – так как в принципе империя предполагает единый космический порядок, а порядок – иерархию, от центра к периферии.
Перед нами – концентрическая схема восхождения/удаления, где центр в конечном счете сводится до «точки», не имеющей объема, но имеющей координаты. Утверждение, что нечто, обладающее «объемом», относится к центру, соотносительно – делаемое либо по направлению «к себе» (через утверждение, что нечто тождественно в данном отношении с иным, уже причисленным к центру), либо «от», из периферии, через утверждение своей непринадлежности, т. е. является высказыванием, направленным на изменение положения вещей (причисление к центру или образование иного центра, изменение иерархии, а поскольку империя едина, то изменение иерархии возможно через декларирование ложности существующего порядка, например: «Москва не является центром Святой Руси», «истинная Русь» – это нечто иное).
В логике империи указание на «мир» – это указание на ближнюю сферу (утраченного или желаемого), не противопоставление порядка, а выделение области реальности, которую можно идентифицировать как упорядоченную или подлежащую упорядочиванию в ближайшей перспективе: если угодно, как область (пространственную или нет), где происходящее расценивается как «имеющее значение», «внутреннее/ наше дело», то, что не может быть проигнорировано. Зазор же, существующий между «внутренним» и «внешним», – образует «свое внешнее».
10. Для Российской империи XIX века концепт «русского мира» непривлекателен
Политически он практически не имеет перспектив – единственная предоставляемая им возможность: включение Галиции. Понятно, что цена этого вопроса – несопоставимо велика, предполагает перекраивание всей карты Центральной и Восточной Европы: соответственно, «галицийский вопрос» (и «русский мир» в этой ипостаси) не имеет самостоятельного значения, допуская куда более широкие рамки обсуждения.
11. Проективную роль для Российской империи играет скорее «Славянский мир»
Этому благоприятствует и множественность наполнений «Славянского мира» – разные ипостаси «панславизма», идеи «славянской взаимности». Российская империя имеет возможность использовать идею «Славянского мира» для утверждения своей первенствующей роли – с различным политическим наполнением, от планов «Славянской монархии» до образования Славянской федерации. Множественность интерпретаций делает его достаточно свободным в обращении – в зависимости от конкретной ситуации «Славянский мир» может отступать до зоны «неразличения» или, напротив, актуализироваться, легко сочетаясь с принципом, например, «христианского/православного мира» на Балканах или «антигерманской» идентификации.
12. «Русский мир» выступает чаще как контримперский, проект построения иного порядка (в том числе «иного имперского»)
Напротив, к концепту «русского мира» обращаются оппоненты существующего порядка: Кулиш, консерваторы, оппозиционно настроенные к имперскому правительству и издающие в Петербурге в 1870-е одноименную газету и т. д. «Русский мир» здесь функционирует как указание на несовпадение «имперского» и «русского», на плюрализацию «русскости», не сводимой к «России», но образующей целый «мир», т. е. множественность вариантов «русскости», способов быть «русским». Подобно тому как «Славянский мир» включает множество «славянских народностей», так и «Русский мир» включает по меньшей мере две – северную и южную (Костомаров, 1860), для Кулиша «русский мир» дает возможность быть «русским патриотом» и утверждать, что если ранее, при слиянии «южного русского племени» с «северным» в одно государство первое много дало ему (1857), то теперь речь должна идти о новой роли этого племени, Киеву, а не Москве должно стать центром возрожденного славянства – т. е. «мир» здесь используется для того, чтобы пересмотреть утверждение о единственности центра этого мира, предложить иное видение империи: федеральное, дуальное (южной и северной) или триальное (велико-, малороссов и поляков, где малороссам отводится особая роль – примирителя в славянской распре), областническое и т. д.
Если «Славянский мир» собирает единство там, где ранее пролегали границы – конфессиональные (католики, протестанты, православные), племенные (чехи, сербы, хорваты, болгары, великоруссы, поляки и т. д.), то «Русский мир» синхронно подчеркивает множественность, создает различения там, где ранее представало единство, – вместо «Руси», которую утверждают в ее тождественности «России». И тем самым оказывается больше «России» – не обязательно пространственно, но, коли осмелиться на рискованную аналогию, – логически содержательнее (учитывая закон обратного соотношения объема и содержания понятия).
Часть 1
О понятии «нации» и истории национализма
3. «Речи к немецкой нации» Фихте: нация, народ и язык
«Пусть другие при Реформации преследовали земные цели, они никогда бы не победили бы, если бы во главе ее не стоял предводитель, воодушевленный вечным, то, что он, никогда не забывавший о деле спасения всех бессмертных душ, с полной убежденностью бесстрашно выступал против всех сил ада, – это естественно и не чудо. Это лишь свидетельство немецкой серьезности и души»
(Фихте, 2009: 152).
Роль Фихте в формировании националистического видения, не ограничивающегося влиянием на складывание немецкого национализма, но распространившегося далеко за его пределы – путем как прямого, так и (в еще большей мере) опосредованного воздействия – общепризнанна (см., напр.: Гайденко, 1979, Малахов, 2010: 126–127). Однако из всей совокупности больших текстов, созданных Фихте, лишь в одном он непосредственно и целенаправленно говорит о нации и национальном действии – в знаменитых «Речах к немецкой нации». Причем, что особенно любопытно, хотя данные речи являются, по заявлению самого автора, продолжением «Основных черт современной эпохи» (Фихте, 1993), между ними – водораздел, заключающийся в совершенно ином видении конкретных целей и задач времени – появлении нового понимания «нации», которое вызывает переинтерпретацию предшествующей историософской конструкции – за счет введения нового субъекта. Л. Гринфельд пишет: «…развитие национального сознания в Германии происходило исключительно быстро. До 1806 г. об этом сознании вообще говорить не приходится, а к 1815 г. оно уже созрело…» (Гринфельд, 2008: 263). Разумеется, в этих словах есть изрядная доля преувеличения, и сама работа Гринфельд демонстрирует, насколько подобная формулировка неточна, но одновременно она фиксирует то обстоятельство, как быстро данный феномен возник для взгляда внешнего наблюдателя – те элементы (что социальные, что интеллектуальные), которые ранее пребывали каждый в своей собственной «нише», за несколько лет срослись в узнаваемый комплекс, получивший собственное имя и став самостоятельной частью реальности. Ставя своей целью рассмотреть функционирование понятий «нации» и «народа» в «Речах…» Фихте и значение его философии языка в формировании одного из наиболее известных и влиятельных вариантов националистического учения, мы полагаем необходимым начать с биографического контекста, в рамках которого оно формировалось.
Биографический и исторический контекст. С самого начала своей академической деятельности Фихте видел себя не только в роли преподавателя, обучающего студентов, но и как «морального воспитателя», обращающегося как можно к более широкой аудитории: с молодых лет мечтавший стать проповедником, он в университетскую деятельность принес тот же пафос. В первом же семестре, проведенном им в Иене, он, помимо читаемого курса наукоучения, выступал по пятницам (с шести до семи вечера) с публичными лекциями «Мораль для ученых», а в следующем семестре, «чтобы другие академические лекции не препятствовали никому из студентов их посещать, выбрал для них воскресный час и нарочно такой, который не совпадал ни с академическим, ни с общественным богослужением» (Фишер, 2004: 164)[1 - Выбранный день вызвал жалобу со стороны йенской консистории о нарушении указа о «дне субботнем», разбирательство дошло до герцога, решившего спор в пользу Фихте (Фишер, 2004: 165— 166) Яковенко, 2004: 79–81).]. Оказавшись после скандальной отставки с поста профессора Йенского университета (в результате известного «спора об атеизме») в Берлине, в кругу ранних романтиков – в первую очередь Фр. Шлегеля и Фр. Шлейемахера[2 - С первым из них Фихте в то время был настолько близок, что планировал поселиться совместно, семьями, и создать некую «общину», что звучало особенно скандально на фоне того, что Шлегель в это время открыто жил с Доротеей Фейт, дочерью Моисея Мендельсона, описав эти отношения в «Люцинде», о которой Фихте отзывался довольно благосклонно (Фишер, 2004: 191–192, Тайм, 2007: 455–459, 481–482).], Фихте также не ограничивается чтением в приватном кругу лекций о наукоучении, а с 1804 читает в частном порядке популярные лекции: «Об основных чертах современной эпохи» (1804/05)[3 - Среди слушателей Фихте был, в частности, Клеменс Меттерних, в то время австрийский посланник при прусском дворе (Фишер, 2004: 195).], «Наставления к блаженной жизни» (1806) и «Речи к немецкой нации» (1807/08). О том значении, которое придавал данным выступлениям сам Фихте, говорит тот факт, что при назначении его в Эрлангенский университет им было официально оговорено право проводить в Эрлангене лишь лето, на зиму возвращаясь в Берлин (Яковенко, 2004: 117): «он должен был читать летом в Эрлангене, а зимой в Берлине. Таким образом, сначала его время делилось между Берлином и Эрлангеном, а его деятельность между академическими и неакадемическими лекциями» (Фишер, 2004: 195). Уже один из ранних слушателей Фихте, Фоберг, в 1796 г. писал: «Он говорит не красиво, но слова его значительны и вески. Его принципы строги и мало смягчены гуманностью. Если его подзадоривают, он становится ужасен. Его дух – беспокойный дух, он жаждет случая много сделать в мире. Поэтому его публичная лекция шумна, как гроза, разражающаяся вспышками пламени и ударами грома, он возвышает душу он хочет создать не только хороших, но и великих людей, его взор грозен, его поступь смела, он хочет руководить с помощью своей философии духом века, его фантазия не блестяща, но энергична и мощна, его образы не пленительны, но смелы и велики» (цит. по: Фишер, 2004: 129), а один из основных исследователей философии и биографов Фихте, Куно Фишер, давая общую характеристику своему персонажу, писал: «Каждая лекция была для него не отправлением служебных обязанностей, а выполнением миссии, которая должна была, подобно подвигу, оказывать свое влияние вечно: он не только преподавал философию, он проповедовал ее, в течение лекции его кафедра была то амвоном, то ораторской трибуной» (Фишер, 2004: 129). С тем большим основанием можно это сказать о его публичных лекциях, чьи цели были не осложнены задачами научного изучения, а должны были действовать на слушателей непосредственно, преобразуя их.
Отметим, что стремление к проповеди в жизни Фихте несколько раз становилось – именно в решающие моменты – непосредственным намерением (правда, ни разу не реализованным). Весной 1813 года, когда Прусский двор, после длительных колебаний, решится объявить войну Наполеону и присоединиться к России, Фихте записывает в дневнике (1–2 апреля): «В настоящее время и для ближайшей цели нести людям высшее разумение, погрузить воителей в Бога» (цит. по: Фишер, 2004: 206) – и обращается при содействии Николовиуса с просьбой принять его в качестве религиозного оратора (проповедником он не мог быть, не имея посвящения в сей сан) в королевской квартире, намереваясь сопровождать войска, однако не получает на это соизволения – и тогда записывается в ландштурм (Фишер, 2004: 206, Яковенко, 2004: 136–138).
Аналогичным образом поступил Фихте и почти семью годами ранее, в начале франко-прусской войны 1806–1807 гг. обратившись с просьбой разрешить ему отправиться в войска в качестве религиозного оратора. В эти дни он писал, набрасывая обращение к воинам: «Если оратор вынужден удовольствоваться словом, если он не может биться в ваших рядах, чтобы засвидетельствовать истинность своих основоположений, смело пренебрегая опасностью и смертью, сражаясь на самых опасных местах, действуя, то вина в этом ложится единственно на его эпоху, которая разъединила призвание ученого и призвание воина. <… > Но раз теперь он может только говорить, он хочет метать гром и молнию. И он хочет это делать не в безопасности и укрывшись, нет, во время этих речей он будет высказывать относящиеся сюда истины со всею ясностью, с какою он их постигает, со всею той силой, на которую он способен, и от своего собственного имени – все истины, которые перед судом врага заслуживают смерти. <… > И ему тем более позволительно обращаться к вам с речью, так как истинная потребность побуждает его искать со своими мыслями своего рода убежища от обычной атмосферы в вашем обществе, в вашем образе. Ибо нужно сознаться – и это совершенно очевидно, – немецкая нация по собственной вине, от ответственности за которую немногие индивидуумы имели бы право считать себя свободными, накликала на себя такую судьбу, которая вложила ныне оружие в ваши руки, и, к несчастью, заслужила то, осуществление чего, будем надеяться, отвратят ваши победы. Дряблость, трусость, неспособность приносить жертвы, отважно ставить на карту свое состояние и жизнь за честь, предпочитание терпеть и согласие медленно быть ввергаемыми все глубже и глубже в бездну позора вместо того, чтобы разом воспрянуть до бесповоротного решения все поставить на карту: вот та преданность праху земли, которая считает всякое возвышение над этим экзальтацией и также находит его смешным. <… > К вашим душам не должно получать доступа расслабленное нравоучение, жалкая софистика, лучшие и сильнейшие представители нравоучения должны, по меньшей мере, постараться не допустить ее до вас. Вам открывается теперь случай увериться ясно в этом вашем ценном свойстве. До битвы и по отношению к войне: не колебаться и только хотеть войны, а твердо и отчетливо учитывать все ее последствия. В битве: хранить при смятении присутствие духа в груди и даже в минуту смерти иметь на уме победу, отечество, вечное. Такого случая не имеет никто другой в такой мере, как вы, потому вам можно позавидовать. Но одним только этим примером вы будете воздействовать также и на других, также и другой части нации, которая была мертва и в забытьи, дадите вновь чувство и силу. На вас обращает с надеждой свой взор друг человечества и немцев. На вас обращаются его надежды, которые лежали во прахе» (цит. по-.Яковенко, 2004: 120, 121–122).
На свое прошение Фихте получил от тайного советника кабинета Бейме ответ (от 20 сентября): «Ваша мысль, дорогой мой Фихте, делает Вам честь. Король велит Вас благодарить за Ваше предложение. Быть может, впоследствии Вы и дадите ему осуществление. Но сначала должен сказать свое слово король со своими войсками. Потом красноречие сможет усугубить преимущество победы (выд. нами. – А. Т.)» (цит. по: Яковенко, 2004: 122). Здесь ярко проявилась разница позиций – правительства, действующего в рамках «ancien regime», где «народ» – это объект управления, и радикальной позиции Фихте, стремящегося мобилизовать народ. По преданию, Фридрих Великий во время Семилетней войны отказал жителям Берлина, обратившихся к нему с предложением собрать народное ополчение для защиты города, предпочтя сдать его русской армии, сказав: «Сейчас они готовы вооружиться ради меня, а против кого они вздумают вооружиться в следующий раз?» Фихте не только говорит в рамках нового, национального демократического понимания (что со всей отчетливостью зазвучит год спустя, в «Речах к немецкой нации»), но и поступает соответствующим образом: покидает Берлин после поражения при Иене, не желая оставаться в городе под властью иноземцев, и возвращается только после заключения мирного договора. Обратим внимание на нетипичность подобного поведения – вспомним, как Гегелю вступление французской армии доставило исключительно житейские неудобства, но не вызвало патриотического пыла – главной заботой его была сохранность только что законченной рукописи «Феноменологии духа». Национальное движение началось под воздействием двойного поражения – сначала Австрии (в 1805), приведшего к образованию Рейнского союза, а затем Пруссии (в 1806), вынужденной отказаться от планов по созданию Северо-Германского союза и сохранившей некоторый остаток независимости лишь благодаря союзу с Российской империей. Первые значительные националистические выступления относятся к 1808–1809 гг. (Данн, 2003: 65–67), и в этом смысле реакция Фихте особенно показательна, он переживает ситуацию как «национальный вызов» одним из первых, мыслит саму войну 1806 г. как национальную – и этим, помимо прочего, объясняется значение его «Речей»: в тот момент, когда состояние общей растерянности, разочарования в просвещенческих ценностях и одновременно беспомощности того порядка, который ранее был государственным и социальным, оказывается всеобщим, Фихте один из немногих, кто готов предложить новое видение, дать позитивный ответ на происходящее.
«Речи к немецкой нации». Дильтей писал: «самая катастрофа [т. е. падение Пруссии. – А. Т.] пробудила в мужах идеализма чувство государства» (цит. по: Хюбнер 2001: 152) – Фихте ощутил это чувство раньше других и заговорил языком, в котором время опознало себя. Власти не препятствовали ему, поскольку отчасти сочувствовали этим новым воззрениям, отчасти оказывались готовы поддержать все, что давало надежду на выживание в новых условиях (ситуация скоро изменится: через десять лет после смерти Фихте его речи нельзя будет переиздать в Берлине и они смогут быть выпущены вторым изданием в 1824 г. только в Лейпциге, под куда более либеральными цензурными правилами саксонского королевства).
Он читал в переполненной круглой зале Берлинской академии, обращаясь к «немцам», не к подданным короля Пруссии, не к бывшим подданным только что прекратившей свое существование Священной Римской империи германской нации, но к новой общности – той, которая должна была возникнуть в том числе и под воздействием этих речей:
«Я говорю просто для немцев, просто о немцах, не признавая, но откладывая в сторону и отбрасывая все разделяющие различия, которые были созданы для единой нации злосчастными событиями в течение столетий… дух мой усматривает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, изо всех земель, над которыми она простерлась, рассматривает, обдумывает наше общее положение и обстоятельства и жаждет, чтобы часть живой силы, с которой, быть может, вас охватят эти речи, сохранилась и в немногом отпечатке, который один будет доступен глазу не присутствующих здесь, чтобы она дышала из него и в любом краю воспламеняла немецкие души к решению и действию… поскольку я говорю о немцах вообще, я буду высказывать кое-что, что к нам ближайшим образом не относится, как все же относящееся к нам, а кое-что непосредственно относящееся только к нам – как относящееся ко всем немцам. В духе, истечением которого являются эти речи, я усматриваю насквозь сращенное единство, в котором ни один из членов не считает судьбу другого чужой и которое должно и обязано возникнуть, если только мы не должны совершенно исчезнуть, – я вижу это единство уже возникшим, завершенным и присутствующим в настоящем (выд. нами. – А. Т.)>> (Фихте, 2009: 53–54).
Уже в самом начале общность, к которой адресованы речи, описывается двойственно – как то, что должно возникнуть, и то, что должно быть сохранено: «…средство спасения… состоит в образовании совершенно новой самости, существовавшей прежде, пожалуй, только как исключение у отдельных лиц, но никогда как всеобщая и национальная самость, и в воспитании нации, чья прошлая жизнь угасла и стала приложением к чужой жизни, которая или будет принадлежать исключительно только ей, или, если она должна будет от нее распространяться и на другие, при любом делении останется целой и не потерпит ущерба, одним словом: то, что я предлагаю в качестве средства сохранения существования немецкой нации, есть полное изменение воспитания» (Фихте, 2009: 63). – В этом тексте можно наблюдать характерное движение понятия «нации»: «нация» существует, но она малочисленна, ограниченна и слаба, вследствие чего не способна достигнуть стоящих перед ней целей, здесь «нация» понимается в традиционном для предшествующей европейской традиции смысле как «группа людей, претендующих представлять или избирать представителей для конкретной территории на соборах, сессиях или сословных собраниях» (Кедури, 2010: 25). Французская революция начнется с утверждения, что «нацией» должен быть весь «народ», т. е., как разъяснял Сийес,
«Что такое нация? Корпус членов, живущих под одним общим законом и представленных одним и тем же законодательством» (цит. по: Кедури, 2010: 25).
Иными словами, народ, заключенный в границах одного политического тела («живущий под одним общим законом»), должен быть «представлен» – и подобная «представленность» делает его «нацией». Однако в ситуации Германии нет никакого общего «политического тела» – и «нация» здесь переопределяется Фихте как то, что «представляет само себя», сообщество, принадлежащее к «образованию» (т. е. отсылающая к «республике словесности») – и этой «нации» надлежит распространиться до пределов «народа» посредством воспитания: «…это таким образом ограниченное образование до сих пор было достоянием только очень незначительного меньшинства, именно потому называвшегося образованными сословиями, огромное же большинство, на котором покоится общественное существование, народ, оставалось совершенно без попечения искусства воспитания и предоставлено слепому случаю. Мы намерены посредством нового воспитания образовать немцев к новой общности, которая во всех своих частях будет движима и оживлена одним и тем же единым настроем, и если бы мы при этом намеревались опять отделить образованное сословие, которое одушевлялось бы вновь развитым побуждением нравственного одобрения, от необразованного, то это последнее отпало бы от нас и было бы для нас потеряно, так как надежда и страх, посредством которых только и можно было бы на него воздействовать, служат уже не нам, но против нас. Нам поэтому не остается ничего иного, кроме как распространить новое образование на все без исключения, что есть немецкого, так что оно будет не образованием какого-нибудь особого сословия, но образованием нации просто как таковой и без всякого изъятия каких-либо ее отдельных частей, в котором, собственно, в воспитании ко внутреннему удовлетворению правым полностью снимается и исчезает всякое различие сословий, которое в других ветвях воспитания может продолжать сохраняться, и, таким образом, у нас возникнет ни в коем случае не народное воспитание, но собственное немецкое национальное воспитание (выд. нами. – А. Т.)» (Фихте, 2009: 65–66). Отсюда и само заглавие речей – «к немецкой нации» – и центральная проблема «воспитания», предстающая в двух планах:
– во-первых, существующая «нация» должна само-воспитать/перевоспитать себя, чтобы оказаться способной стать воспитателем «народа»: «Речь моя обращает это предложение в первую очередь к образованным сословиям Германии, поскольку именно с их стороны можно надеяться на понимание, и призывает главным образом их стать авторами этого нового творения и тем самым, с одной стороны, примирить мир со своей прежней деятельностью, с другой – заслужить продолжение своего существования в будущем» (Фихте, 2009: 68),
– во-вторых, «народ» надлежит воспитать таким образом, чтобы он смог в результате этого стать «нацией», что возможно за счет принадлежности самой «нации» к «народу», получающей от последнего источник своей власти и вынужденной воспитывать себя и воспитывать народ, дабы сохраниться – поскольку, если эта задача не будет решена, «нацией» станут другие: «В ходе этих речей мы увидим, что до сих пор всякое развитие человечности в немецкой нации исходило от народа, что всегда сначала в нем проявлялись великие национальные обстоятельства и он заботился о них и содействовал им, что, таким образом, сейчас впервые образованным сословиям представляется возможность вмешаться в развитие нации и что если они действительно воспользуются ею, то и это произойдет впервые. Мы увидим, что эти сословия не могут рассчитать, на сколь продолжительное время в их власти будет стать во главе действий, поскольку народ уже почти готов к ним и созрел до того, чтобы быть ведомым людьми из народа, так что спустя короткое время он и без всякого нашего содействия сможет сам себе помочь, из чего для нас просто-напросто последует то, что потомки нынешних образованных станут народом, а из нынешнего народа произойдет другое, еще более образованное сословие» (Фихте, 2009: 68).
Поскольку у той общности, которой надлежит возникнуть, нет государственной границы, нет правовой реальности, то ее основание определяется через вне-политическое, которое переопределяется затем в качестве политического – таковым становится язык (см. обсуждение проблематики языка и национальной идентичности: Джозеф, 2005) и вопрос о языке становится вопросом о границах политического тела. В заключительных положениях своих публичных чтений Фихте так сформулирует свой основной тезис (даем соответствующие фрагменты в переводе Б.Н. Чичерина начала 1870-х годов):
«Говорящие одним языком уже прежде всякого человеческого искусства соединены, самою природою соединены множеством невидимых связей, они понимают друг друга и способны все яснее себя понимать, они должны состоять вместе и составлять единое и нераздельное целое. Такой союз не может воспринять и смешать с собою народность иного происхождения и языка, не производя в себе самом замешательства, по крайней мере на первых порах, и не нарушая насильственным образом равномерный ход своего развития. Из этой внутренней, самою духовною природою человека положенной границы вытекает уже внешнее ограничение места жительства, как последствие первой… везде, где встречается особый язык, есть и особый народ, который имеет право самостоятельно устраивать свои дела и управляться сам собою (выд. нами. – А. т.)» (цит. по: Чичерин, 2008: 635—636).
Но сама по себе языковая общность представляется недостаточным основанием для преобразования ее в общность национальную – и потому, отталкиваясь от философии языка, созданной Гаманом и Гердером (см.: Гайм, 2011: 227–231, 249–250 и далее, Гердер, 2007), Фихте формулирует оригинальное учение о двух родах языка, из которого вытекает особый статус «немецкого языка» (и соответствующей народной общности) и особая историческая судьба немецкого народа: «Различие между судьбами немцев и других племен, происходящих от того же корня, в первую очередь и непосредственно подлежащее рассмотрению, состоит в том, что первые остались в первоначальных местах проживания коренного народа, последние же переселились, первые сохранили и развили изначальный язык коренного народа, последние приняли чужой язык, постепенно преобразовав его на свой лад» (Фихте, 2009: 110). И если «первое из указанных изменений, перемена родины, совершенно незначительно», то «изменение языка, значительнее, и, как я считаю, оно ведет к совершенной противоположности немцев и других народов германского происхождения, при этом я сразу хочу подчеркнуть, что речь идет не об особенностях того языка, который был сохранен одним племенем, и не об особенностях того, который был принят другими, но лишь о том, что первое сохранило собственный, второе приняло чужой, речь идет не о происхождении тех, кто продолжал говорить на первоначальном языке, а о том, что на этом языке не переставали говорить, при том что в гораздо большей степени язык образует людей, чем люди образуют язык» (Фихте, 2009: 111–112).
Фихте вводит подразделение народов, говорящих на «собственном» и на «не собственном» языке, которое в дальнейшем заменяется терминологически на «живые» и «мертвые языки», как равноценный синоним которых используются термины «живые…» и «мертвые народы» (см.: Фихте, 2009: 137–139). Живой язык исторически изменчив, но «язык всегда остается тем же самым языком. Хотя потомки после нескольких столетий не понимают прежнего языка своих предков, потому что для них исчезли переходы, однако все же с самого начала сохраняется незаметный в настоящем непрерывный переход без скачков, делающийся заметным добавлением новых переходов и проявляющийся как скачок. Никогда не наступал момент, когда бы современники переставали понимать друг друга, поскольку их вечный посредник и переводчик – сказывающаяся из них всех естественная сила – всегда был и сохранялся» (Фихте, 2009: 114), поскольку при всех изменениях они не прерывают связь с изначальным символизмом языка: «Для всех, кто только хочет мыслить, закрепленный в языке символ ясен, для всех, кто только действительно мыслит, он жив и возбуждает их жизнь» (Фихте, 2009: 118). Это отличие присутствует именно и только на символическом уровне – в отношении «сверхчувственного», поскольку применительно к обозначению чувственных предметов любой язык оказывается достаточен, функционируя на уровне знаков, – и потому исторический разрыв, отсутствие преемственности (т. е. ситуация, характерная для «мертвого» языка) здесь не проявляется, но поскольку для выражения сверхчувственного используются образы, заимствованные из сферы чувственного, становясь символами, то отказ от своего языка обрывает генетическую связь, символы становятся простыми знаками: «…полностью противоположное всему вышесказанному получается тогда, когда народ, устраняя свой собственный язык, принимает чужой, уже достаточно развитый для обозначения сверхчувственного, и при этом не так, чтобы он совершенно свободно передал себя влиянию этого чужого языка и оставался бы безмолвным до тех пор, пока не вошел бы в круг созерцаний этого чужого языка, но так, что народ навязывает языку свой собственный круг созерцаний и ему с момента, когда это случается, приходится развиваться в этом кругу созерцаний. В отношении чувственной части языка это событие не имеет последствий… В отношении же сверхчувственной части языка это изменение, напротив, обладало бы важнейшими последствиями (выд. нами. – А. Т.). Для первых его обладателей он, правда, образуется вышеописанным образом, но для позднейших его завоевателей символ сравнивается с созерцанием, которое они либо давно уже оставили позади, либо на тот момент вообще не имели, а может быть, даже и не могли иметь. Самое большее, что они могут при этом сделать, – это получить объяснение символа и его духовного значения, посредством чего они получают плоскую и мертвую историю чужого образования, но никоим образом не собственное образование и, соответственно, образы, которые для них и не ясны непосредственно, и не возбуждают жизнь, но должны казаться полностью произвольными, как и чувственная часть языка. Для них теперь, со вступлением голой истории как просветительницы, язык во всем круге своей символики мертв, завершен, а его постоянное течение дальше прервано, и хотя они могут продолжать живо развивать этот язык на свой манер, исходя из этого круга и насколько это возможно с этого исходного пункта, но первая составная часть остается все же перегородкой, которая совершенно разделяет первоначало языка как естественной силы из жизни и возвращение действующего языка в жизнь. Такой язык хотя на поверхности и может приводиться в движение ветром жизни и потому казаться живым, но в глубине его – мертвая составляющая: он, получая новый круг созерцаний и теряя старый, лишается живых корней» (Фихте, 2009: 119–120). «Сверхчувственная часть» в мертвом языке «становится разодранным собранием произвольных и больше совершенно непроясняемых знаков и таких же произвольных понятий, которые можно только выучить, и ничего более» (Фихте, 2009: 125).
Эту противоположность Фихте накладывает (с некоторыми оговорками, см.: Фихте, 2009: 128–129) на немецкий и романские народы – где, предсказуемым образом, немецкий народ оказывается обладателем «живого» языка в отличие от народов романских, в силу смешения разных языков, ни один из которых не стал цельным ядром последующего развития, ставших обладателями языков «мертвых». Предсказуемое наделение первых положительными чертами (и вторых – их противоположностью) сопровождается введением важнейшего тезиса: «у нации первого рода народ восприимчив, а создатели образования такой нации пробуют свои открытия на народе и хотят иметь влияние на него, в нации второго рода, напротив, образованные сословия отделяют себя от народа и считают последний не более чем слепым орудием своих планов (выд. нами. – А. Т)» (стр. 127–128). – Из этого же выводятся два ключевых «проистекающих из основного различия явлений»: «духовное образование или влияет на жизнь, или нет, и… что между образованными сословиями и народом или существует стена, или нет» (Фихте, 2009: 140) – иными словами, «нация» здесь интерпретируется как имеющая возможность расшириться до «народа» в целом по существу, а не только формальным образом.
Заключение. Один из крупнейших исследователей национализма, Эли Кедури, полагал, что «в философии Фихте… полное самоопределение индивида потребовало национального самоопределения» (Кедури, 2010: 127). Основное возражение против интерпретации, предложенной Э. Кедури, то, что до 1806–1807 гг. Фихте не нуждался в рамках своей философии истории и философии права в концепте «нации» (в том его понимании, что заключается в «Речах к немецкой нации»), равно как обойдется без него и Гегель, с чем согласен и сам Кедури (Кедури, 2010: 42). Другими словами, Кедури демонстрирует логику, с помощью которой из кантианской философии можно вывести «нацию» в понимании Фихте и последующих авторов, т. е. как политического субъекта, через претворение в «нацию» «народа», но это остается возможной логикой. Фихте сможет без особого труда проинтерпретировать свое учение о государстве, которое в его поздней философии, по справедливому замечанию Б.Н. Чичерина, оказывается тождественным «церкви» (Чичерин, 2008: 629, см.: Фихте, 1997), в качестве учения о национальном государстве, где последнее станет сообществом воспитуемых и воспитывающихся в самоотречении от себя ради высшей истины, однако то, что данное сообщество будет определено через языковые границы и «эссенциализировано», понимаясь эксклюзивным образом, но если в самом движении политической мысли Фихте от индивидуализма ранних работ к довольно специфическому холизму поздних можно увидеть следствие разработки и изменения общих принципов наукоучения, то националистическая доктрина оказывается историческим «казусом» (в буквальном смысле слова) применительно к философии Фихте, т. е. тем, что надлежит объяснять из ситуации философствования, а не внутренней логики идеи (тогда как последняя объяснит конкретную конструкцию националистического учения, созданного Фихте). Из фихтевского учения о праве и морали (при всех модификациях, которые оно претерпело за двадцать лет интеллектуальной карьеры Фихте) вытекало учение о «нации», в идеале долженствующей быть тождественной «народу» – и предполагающем, соответственно, исключение из числа «народа» тех, кто не способен войти в идеальную «нацию» (см.: Чичерин, 2008, Фихте, 2006). Однако именно невозможность, в отличие от первоначального видения Фихте (Фихте, 1993), образовать «нацию» в этом понимании чисто политическими средствами привела к необходимости утвердить неполитическое основание, «нацию в становлении» как культурную общность. Сформулированная им в итоге национально-демократическая доктрина оказалась неприемлемой для прусских властей, как только непосредственная и крайняя угроза государству миновала, поскольку революционное ее содержание, заключающееся в апелляции к народному суверенитету и к формированию новой, политической «нации», предполагало, как заявлял сам Фихте, радикальное изменение порядка вещей, революцию более существенную, чем революция Французская: переворот религиозный, где «народом избранным» оказывалась «немецкая нация», к которой он обращался, цитируя пророка Иезекииля и призывая: «Пусть составные части нашей высшей духовной жизни иссохли, и именно потому связи нашего национального единства разорваны и в полном беспорядке разбросаны повсюду так же, как кости в речи пророка, пусть грозы, ливни и палящее солнце многих столетий отмыли и иссушили их, но живительное дыхание духовного мира не перестало еще веять. Оно охватит останки нашего помертвевшего национального тела и воссоединит их, чтобы даровать им великолепную новую и преображенную жизнь» (Фихте, 2009: 107–108).
4. «Государство национальностей» и теория национализма Отто Бауэра
«Национальный вопрос» в XIX веке вызвал много страстей, но на удивление мало теоретических размышлений. Бенедикт Андерсон два десятилетия назад задавался вопросом: «Если сегодня нам кажется, что в мировой политике двух последних веков национализм сыграл грандиозную роль, то почему столь многие плодовитые мыслители современности – Маркс, Ницше, Вебер, Дюркгейм, Беньямин, Фрейд, Леви-Стросс, Кейнс, Грамши, Фуко – так мало что сказали о нем?» (Андерсон, 2002[1996]: 7) – и далее констатировал:
«В течение долгого столетнего периода консервативного мира в Европе (1815–1914) национализм вызывал теоретическую озабоченность лишь у немногих людей и только по случаю, но эти случаи имели весьма поучительное значение» (там же: 8).
Общеизвестно, что большинство современных наиболее обсуждаемых теоретических и теоретикоисторических подходов к пониманию национализма опираются на марксистскую и, шире, социалистическую традицию. Это вполне предсказуемо, поскольку «национализм» не только и не столько бросал вызов социалистическим схемам интерпретации социальных движений, но и оказывался существенным политическим вызовом, взламывающим привычную логику политического размежевания. Классовое противостояние видимо отменялось национальной солидарностью, и, напротив, там, где должна была бы существовать классовая солидарность на почве общности интересов (как, например, между немецкими и чешскими рабочими, противостоящими буржуазии), обнаруживался национальный конфликт. Если для представителей националистической мысли национализм был «естественным» движением истории, а для консерваторов – возмущением существующего порядка, то для марксистской и близких к ней направлений мысли это был серьезный теоретический вызов, намечающий линии политического размежевания, по крайней мере на первый взгляд противоречащие тем, которые должны были наблюдаться согласно теории.
Другим теоретическим вызовом для этого круга мысли были «периферийные» феномены – если интеллектуальные схемы вырабатывались применительно к Западной Европе или к Германии, то, обращаясь к Югу или Востоку Европейского пространства (особенно если смотреть на него не извне, а изнутри), можно было наблюдать процессы, которые требовали включения в существующую концепцию, т. е. те, для которых не было готовых или легко представимых объяснений. Не случайно в ту эпоху, о которой писал Б. Андерсон, наиболее интересные и оказавшиеся востребованными уже значительно позже, с 1980-х годов, теории национализма сформировались именно в этом регионе – назовем, в частности, М.П. Драгоманова или теоретиков еврейского национального вопроса, вынужденных осмыслять саму возможность «нации без территории» (см., напр.: Френкель, 2008 [1984]).
Задача статьи – не столько историческая реконструкция, сколько теоретическое рассмотрение классической работы по теории национализма – «Национального вопроса и социал-демократии» Отто Бауэра (5.IX.1881 – 5.VII.1938), проанализировать теоретическую конструкцию, предложенную Бауэром, – в контексте значительно более поздних, но генетически с ним связанных «модернистских» (по терминологии Э. Смита) концепций национализма (Смит: 2004[1998]: гл. 1–6).
Однако прежде всего позволим себе напомнить исторический контекст появления работы Бауэра. Этот труд создается как теоретическое обоснование новой партийной политики австрийской социал-демократии в национальном вопросе, на фоне дебатов, начавшихся в 1897 г. и приведших к формированию теории «экстерриториальной национальной автономии». В данном отношении текст Бауэра продуктивно читать «с конца», поскольку именно в последних главах (Бауэр, 1909 [1907]: та. VII) содержится «нерв» его работы, то, что делает рассмотрение национального вопроса неотложным. Интерес Бауэра далек от собственно теоретического – с этим сопряжена и некоторая сумбурность изложения, поскольку «Национальный вопрос…» создается в связи с текущей партийной политикой, именно для разрешения затруднений в выработке которой и потребно столь серьезное теоретическое построение: это вопрос о будущем австрийской социал-демократии, о том, может ли она сохраниться как единая партия или же ей предстоит распад на отдельные национальные социал-демократические партии – и как возможно в новых условиях в пределах Цислейтании единое профсоюзное движение, поскольку экономические задачи все чаще представляются отступающими перед напором национальных требований и устремлений.
Иными словами, «национальный вопрос» все более активно проникает в те области, которые ранее казались надежно закрыты от него – национальная политика перестает быть исключительно проблемой «буржуазных партий», а оказывается внутренним делом социал-демократии. Развернутый оригинальный ответ на эти новые вопросы со стороны «австромарксизма» дал Карл Реннер, под псевдонимом в 1899 и 1902 гг. опубликовавший две работы (см.: Шпрингер [Реннер], 2010 [1902]), в которых последовательно формулировал принцип «экстерриториальной национальной автономии» как альтернативу принципу «[территориального] национального самоопределени я», неприменимость которого в австрийских условиях была по меньшей мере для значительного числа национальных движений очевидна. Характеризуя позицию Реннера в конце 1890-х – начале 1900-х, УМ. Джонстон писал:
«…Реннер объявил себя приверженцем федералистской схемы, предложенной венгерским евреем врачом Адольфом Фишгофом (1816–1893). Национальный вопрос безуспешно пытались решать, опираясь на мудрость Эммерсдорфа, пронизанную духом венгерского утопизма, с оглядкой на швейцарские методы решения межнациональных споров. Задача заключалась в том, чтобы найти средний путь, устраивавший и партию „старочехов“, которыми руководил Ригер, и либеральное министерство Ауершперга. Программа Реннера предвосхитила программу, одобренную социал-демократами на конференции в Брно в сентябре 1899 г. Реннер призывал разделить империю на национальные округа, каждый из которых содержал бы на собранные им самим налоги штаты школ и культурных учреждений. По его мысли, каждый гражданин должен был иметь право выбирать принадлежность к какой-либо нации… Тогда как в многонациональных областях национальные меньшинства должен был защищать имперский парламент, сохраняя контроль над иностранными, военными и налоговыми делами. При этом немецкий язык становился не государственным языком, а языком – посредником» (Джонстон, 2004 [1972]: 156).
Труд Бауэра должен был стать теоретическим обоснованием политической позиции австрийской социал-демократии, юридически сформулированной Карлом Реннером, – эту функцию он исторически выполнил, но значение его вышло далеко за пределы партийной политики и перипетий австрийской государственной жизни начала XX века. История, казалось, пошла по пути, совершенно отличному от того, который обсуждался Реннером и Бауэром – вместо «государства наций» и «австрийской федерации» декларация В. Вильсона 1917 г. и Версальский и Сен-Жерменский договоры 1919 г. обозначили торжество национальных государств. Однако в последние десятилетия XX века оптика венских теоретиков оказалась вновь востребованной, как мы попытаемся показать, не только благодаря их теоретической последовательности, но иногда и вопреки ей.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: