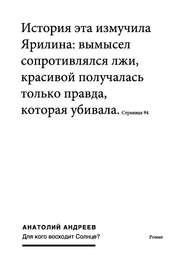скачать книгу бесплатно
Для кого восходит солнце
Анатолий Николаевич Андреев
Второй роман А. Андреева, который в определенном смысле продолжает первый, «Легкий мужской роман». В центре внимания – пересечение трех типов сознания: художественного, религиозного и философско-атеистического. Отсюда – три главных героя: писатель, философ и священник.
Сюжетная линия – составление трех любовных треугольников. Однако содержание романа не исчерпывается сюжетом. Любовь, смерть, творчество, тема Афгана, образ Минска и т.д. – все это уместилось в короткий роман. Главное достоинство произведения связано со стилем. При всей своей откровенной развернутости в сторону интеллектуалов, «высоколобых» читателей, роман одновременно как бы прост (в этом отношении он продолжает линию «Легкого мужского романа»).
В произведении много эротики, парадоксального сопряжения ситуаций, придающих самым серьезным вещам игровой оттенок.
Анатолий Андреев
Для кого восходит Солнце?
Роман
Моей жене Елене Андреевой
Согласно сообщениям прессы, Рождество президент Соединенных Штатов Дж. Буш младший проведет на своем ранчо в Техасе в кругу семьи.
Меню рождественского ужина составят блюда мексиканской кухни.
1
Безжизненный свет Луны преобразил находящуюся в пределах его досягаемости территорию празднично-черного неба в аквамариновый оазис. Волшебный Занавес Вселенной был унизан далекими звездами, убедительно обозначавшими безмерность темного бархата пространства.
Становилось ясно до очевидности, что напыщенные декорации небес были задуманы как неотразимый аргумент для подавления воли и сознания несчастного человека, бредущего по пыльным апрельским тротуарам, извилистыми лекалами опоясывавшими окраины чудовищного мегаполиса, подавлявшего одинокого человека своим культурным величием уже со стороны Земли. Дела рук человеческих (Город!) были заодно с небесами в противоречивом единстве. Человек еще не успел прийти в себя после зрелища Раскаленно-Оранжевого Шара, самоуверенно и весело уплывшего за бочок планеты Земля, как над его головой с востока бесшумно взошла нище-бледная и надменная Луна. Почему-то казалось, что она тоже едва заметно ухмыляется над согбенным человеком.
Постепенно сумерки сгустились, и образовалась темная, густая сфера, веками питающая мистикой астрологический маразм, – из ничего, из плотной пустоты. Все создается из ничего по законам или психологии, или материи. Если все так враждебно человеку, зачем было его создавать? А если он создан, нечего удивляться тому, что зачем-то сотворенный человек начинает защищаться, сражаться за жизненное пространство, превращая его в оазис. Оазис человека – не мегаполис, а Вера, Надежда, Любовь. С ними Вселенная превращается в тепленькое местечко, человек – в верноподданного Господина Вселенной, а Господь Бог – в виртуального Господина, посаженного на трон реальным человеком.
Все бы ничего, да вот вам напасть: Умные Мысли, убивающие веру и надежду и превращающие резиденцию Бога Отца в необитаемую ледяную пустыню.
Остается Любовь.
Вот почему Солнце и Луна вчера вечером ехидно кружились над человеком (что и было описано в начале романа, тоже детища культуры), пугая его высокомерным ликом вечности. Они почувствовали, что из человека уходит любовь, сочится жизнь из раны, нанесенной Татьяной.
Но человек пережил ночь и заставил плодово-сочную, похожую на тривиальный тропический апельсин, морду вечернего светила взойти с Востока, обогнув планету. Сегодня человеку было наплевать, что Земля вращается вокруг Солнца. По законам психологии человек был прав.
Солнце сделало вид, что оно всходило вовсе не ради человека, пряча свою виноватую, вылинявшую за ночь размыто-желтую физиономию за кисеей грязно-мутных облаков. Человек хотел посмотреть в ехидные глаза этой наглой пылающей звезде, дающей жизнь всему и на этом скользком основании решившей, что человек должен стать ее рабом.
– Так-то лучше, – сказал человек, неподвижным взглядом укротивший солнце и поймавший его лукавый взор в просвете рваных облаков. Звали его Валентин Сократович Ярилин. Жил он в микрорайоне Малиновка. Холост. Не обременен детьми. – Так намного лучше. А вечером меня не будет на прогулке, можешь не ухмыляться. Я буду у нее. Я люблю ее. Тебе все ясно?
В воспитательных целях Ярилин выдержал паузу.
– Кстати: остальным на тебя наплевать. У них есть Вера и Надежда. Они убеждены, что тебя создал Бог. Да будет свет – слышало что-нибудь про это? Ты всего лишь светильник. Вот и выполняй свои прямые функции: свети. И никаких гвоздей.
Пауза.
– И летом чтоб было 30 градусов. В тени. Строго по Цельсию. Вопросы есть?
Валентин Сократович сменил гнев на милость, и Солнце, завиляв хвостом, ликующе выкатило из-за облаков. Оно вело себя, словно щенок, и сладить с ним не составляло никакого труда.
– Неразумная прир-рода, – процедил сквозь зубы Ярилин, приготавливаясь к утренней зарядке, помогающей поддерживать дряхлеющее (в соответствии с законами природы) тело в приличной форме.
Мегаполис превратился в хлопотливый город Минск, не обращающий никакого внимания ни на небо, ни на солнце. Люди, озабоченные куском хлеба, даже под ноги себе не смотрели, наступая на замшевую и лакированную кожу, облегавшую нижние конечности своих ближних модными моделями туфлей весенне-летнего сезона.
Валентин Сократович также устремился на работу, на культурный фронт, где можно было добыть кусок хлеба и продлить биологическое существование. Культура, как и положено у людей, всецело зависела от натуры и была у нее на посылках. Это не нравилось Ярилину, и он написал роман во славу мысли и культуры. Он не собирался ставить натуру на колени; он хотел поднять с колен культуру. В частности, Валентин Сократович написал: «У женщины есть одна извилина, да и та предназначена для производства на свет детей, а не мыслей».
Вот так и написал в порыве беспристрастного отношения к прекрасной половине человечества, желая прикоснуться к свету истины и вовсе не желая кого-то обидеть. Татьяну Жевагину он как-то при этом не то чтобы не включал в прекрасную половину, а просто ее любил. Любил ее локоны, маленькую грудь, отсутствие извилин и наличие той единственной, за которую охотно прощал ей то, что она не мужчина. И, между прочим, получал от нее импульс для творчества. Строго по Фрейду.
Кому-то трудно будет это понять, но Валентин Сократович естественно совмещал и любовь, и творчество; при этом легкомысленно афишировал это. Неизвестно, что погубило писателя: любовь к истине или неумение это скрывать. Так или иначе, фраза, слетевшая с его честного пера и продиктованная его, судя по всему, многочисленными извилинами (лоб его, словно полотно, на которое проецируется серое вещество, бороздили умные морщины), стала достоянием общественности и, что гораздо неприятнее, фразу эту нравственно озабоченная общественность (Магнолиев, подлец, скорее всего, удружил) срочненько довела до удивительно красивых ушей Татьяны.
Дело, конечно, житейское. Обычный конфликт натуры и культуры. Объяснения, разумеется, было не избежать.
– Не отпирайся, Ярилин. Ты ведь написал. Я тебе никогда этого не прощу.
Красивые глаза Татьяны сузились и потемнели во гневе.
– Какого цвета у меня глаза? Ну?
– Светло-коричневого, – быстро ответил писатель, стараясь угодить.
– Нет, Ярилин, ты ошибаешься. Ты невнимателен. Ты плохо знаешь женщин. Смотри лучше, вглядись, сердцеед несчастный.
– Словно зеленью отдают… Они меняют цвет, как бы…
– Как бы… Уже лучше. Видишь, как все неоднозначно. Как ты мог написать такую чушь, такую подлую ересь, Валентин? Как ты мог?
– Танюша, я тебе все объясню…
– Не надо ничего объяснять. Я тебе никогда этого не прощу.
– Таня…
– Никогда, понял? Ты знаешь, что такое никогда, приятель?
Потом он, втайне изумляясь невменяемости женщин, слетал за шампанским, и они сидели на кухне при свечах. «Шампанское я выпью завтра», – объявила мисс недоступность и бескомпромиссность. Они наслаждались культурным диалогом, который Ярилин грамотно начал с объяснения в любви.
– За что ты меня любишь? За это?
Она медленно, поводя бедрами, выскользнула из юбки, обнажив тот восхитительный жизненно важный узел, в недрах которого была сокрыта проклятая извилина.
– За это? Ну-ка, напряги свои извилины.
– Мои извилины здесь ни при чем.
– Знаешь, когда я хочу тебя до безумия, мой господин? Когда ты рассуждаешь о жизни. Я испытываю оргазм, впитывая твои мысли. Даже когда ты меня гладишь, я не испытываю ничего подобного. И вдруг ты объявил женщин неполноценными… Ты представляешь, что ты наделал?
Ее зрачки хищно блеснули люминесцентной поволокой, а потом засветились синей сталью.
– Я хотел сказать…
– Нет, ты вдумайся: я открываю книгу, неглупую книгу, а там черным по белому написано…
– Таня, Таня, забудем.
Ярилин, теряя голову, стал поглаживать тело, медленно добираясь до груди, которая просто сводила его с ума. Она резким движением, не скрывая брезгливости, высвободила сосок из его чутких губ, отодвинула его от себя и сказала:
– Все это могло быть твоим. Навсегда. Вот от чего ты отказался, умник.
В одних черных плотно обтягивающих женские рельефы трусиках перед ним стояла его женщина, которую он всегда хотел. Тело ее было выточено словно из прохладной упруго-пористой резины, из которой был отлит бегемотик, подаренный Татьяной и стоявший унылым свидетелем на письменном столе. Тело стало неживым. Еще вчера она была соткана из нервных окончаний и таяла от любого прикосновения, а сегодня – чешуя кольчужная.
– Покайся, Ярилин, – требовала Жевагина, все время неуловимо охмуряя его плавными телодвижениями.
– Каюсь: я думал, ты умнее.
– Сам дурак. Ты не знаешь женщин. Ты не знаешь жизни. Следовательно, ты не писатель. Я тебе это докажу.
И доказала (что доказала?), не откладывая в долгий ящик, способом столь же гнусным и вероломным, сколь и совершенным в своей гнусности. Истинная женщина никогда не забывает об эстетической стороне дела. Даже если ее ведут на казнь, она должна выглядеть так, словно ей предстоит свидание с любимым, а топор должен блестеть. Если топор будет ржавым, у нее может испортиться настроение. А уж если она играет роль топора в руках судьбы – нет предела изяществу и фантазии.
Татьяна всегда отличалась отменным, врожденным, что ли, вкусом.
– Этот твой коллега по цеху, поэт Магнолиев… Бр-р-р… Один оранжевый галстук чего стоит, – говаривала она, посмеиваясь над тем, как безрезультатно и бесплодно увивался он за ней, очевидно, из соображений чистого искусства. Ухаживание ради ухаживания – вот его безобидное, хотя и слегка назойливое амплуа при ней. – Просто персидский ковер, а не галстук.
Эта вульгарно броская деталь туалета, безотказно действовавшая на иных, менее тонких поклонниц его скромного таланта, буквально стоила ему романа с женщиной, его вдохновлявшей и восхищавшей.
На следующий же день после размолвки Ярилин вернулся уже не в свой дом, где смирно ждала его бледная скво у очага, а в оскверненную обитель. Постель, их постель, белье для которой выбирала, конечно же, Татьяна, была язвительно распахнута и смята. У изголовья, словно подкинутые улики, небрежно валялись ажурные колготки, пахнущие ее духами, и разорванная упаковка использованного презерватива. Позорным пятном на одеяле жег глаза свернувшийся гюрзой, нет, коброй оранжевый галстук. Судя по почерку, нет, по стилистике, мероприятие по наставлению извивисто-ветвистых рогов на умную голову писателя было грамотно и умело срежиссировано и не могло банально кончиться колготками и галстуком.
И точно: на кухне продуманно небрежно застывшим аккордом раскинулся натюрморт: гусиный паштет, свежий букет в его, Ярилина, хрустальной вазе (подаренной Танюшей для того, чтобы не забывал баловать цветами), два близко поставленных, почти сомкнутых фужера, один из которых был тронут ее помадой, и пустая бутылка из-под того самого шампанского.
– Узнаю тебя, жизнь! – воскликнул оскорбленный писатель.
Он с брезгливым любопытством взял салфетку и поднял бокал на свет, словно высматривал отпечатки пальцев. Солнце, проникшее в кухню, празднично брызнуло лучиками от хрустального стекла на стену, где висела студийная фотография Татьяны. Ярилин осторожно поставил бокал на стол, любуясь многоцветьем крохотных полевых цветков, собранных в пучок в фольклорном духе. Букет, конечно, купила она сама. У Магнолиева фантазия далее миллиона алых роз не распространялась. (Валентин Сократович весьма кстати вспомнил, что Магнолиев – это псевдоним, скрывающий малопоэтическую, но честную фамилию Кусливый. Борис Кусливый звали этого сладкоголосого шакала, чем-то напоминающего павлина.)
Теперь вам понятно, читатель, почему рыжая морда Солнца так похабно ухмылялась в лицо надломленному Ярилину, написавшему роман?
Тут мы ненадолго оставим нашего героя наедине с собственными мыслями. Ему было над чем подумать.
2
– Не будем смешивать божий дар с яичницей, – хрипловато басил Астрогов.
– Не будем, – легко соглашался с ним Ярилин, осаживая свой баритон до максимально низких регистров.
Он сидел вечером не «у нее», как было обещано Солнцу, а у своего давнего друга Спартака Евдокимовича Астрогова, «одинокого, как последний глаз у идущего к слепым человека» (наглый Спартак присваивал себе все лучшее, созданное человеческой культурой; он часто цитировал эти строчки, но Валентин Сократович ни разу при этом не слышал ссылки на Маяковского).
– Но ведь рога-то – вот оне, не забалуешь. Пышной кроной, – аргументировал писатель самому себе еще не ясную позицию.
– Рога – это рога, а любовь – это любовь, – загадочно изронил Спартак, пуская из ноздрей дешевый, а потому особенно ядовитый табачный смрад.
– Ну и? – сокращая паузу, выдавил из себя Валентин Сократович, подталкивая Астрогина к какому-нибудь вразумительному резюме.
– Самое любопытное в этой ситуации – твоя реакция. Ты слеп, словно Гомер. Чего ты, собственно, ожидал, северный олень? Женщины всегда будут с поэтами, но не с истиной, ибо витии сии (тут Спартак крикливо икнул) рождены, чтобы красно врать женщинам в глаза; мы же, философы, режем в глаза правду-матку. Есть разница. Псевдониму рожу не мешало бы начистить – но для этого, опять же, надо сначала уподобиться женщине. Надо перестать думать и начать бессмысленно и пылко ревновать. Вот тебе очередной экзистенциальный выбор, – лениво нагромождал гипотезы нетрезвый поклонник истины, изрыгивая дым теперь уж изо рта. Дым клубился, сопровождая тяжелые фразы и подчеркивая их неоспоримость.
– Тебя послушать, так ничего не случилось, – не сдавался обиженный судьбой прозаик.
– Во-первых, не случилось ничего особенного; а во-вторых, не случилось ничего такого, что помешало бы тебе сбегать за бутылкой – всего за второй сегодня, заметь. Во всем знай меру, Сократыч. Умерь скорбь.
– Ты губишь себя, Спартачок.
– Гублю, пожалуй. Зато у меня нет рогов, и я не марал, а скорее, аморал. Гм, гм… Вот уже лет двадцать пять как нет, я имею в виду. Перестали расти, благодаря вовремя принятым мерам. Операция называлась развод. Кстати, о разводе… Не пора ли за водкой, камрад? Нах остен. Универсам «Восточный». За углом. У меня восток под боком, за углом, а север – с юга. И учти: если ты откажешься или не проявишь должного энтузиазма, придется идти мне. А это вредно для моего изношенного здоровья. Гип-гип?
Когда было уже изрядно выпито, женские достоинства, а тем более недостатки были виртуозно разобраны по косточкам, все вещи названы своими именами, когда полным ходом шло уже прикосновение к чистой, ничем не замутненной истине, Спартака потянуло на исповедь (на одну и ту же, впрочем, в течение десяти лет). Он вновь в деталях поведал о том, как родился у них с женой, златовласой Жанной, бывшей студенткой Астрогова, прелестный сынуля, которого они нарекли Эммануилом, в честь Канта, последним из людей умевшего как подобает восхищаться нравственным законом и звездным небом; как спустя полгода анализы подтвердили страшную догадку: малыш оказался дауном.
– И я, Сократыч, будучи, аки пес, атеистом, принял этот крест. И вот уже десять лет, Валя… Изо дня в день. Как крестоносец. И я не знаю людей лучше, чем мой Эмка. Он беззащитен, понимаешь, лишен агрессивности и честолюбия, этих двух гнусных источников всех наших доблестей. Вот не смейся: святой.
Дальше Ярилин не слушал. Он знал, что за этим последует описание разрыва с Жанной. Мамаша дауна хладнокровно вычеркнула злосчастного младенца с заносчивым именем Эммануил из своей жизни, словно неудавшийся эксперимент, и ничего не желала о нем слышать. Малыша поместили в специнтернат. Рептильная реакция молодой супруги повергла Астрогова в уныние, и он запил вчёрную (еще и потому, что считал невоздержание свое причиной болезни сына; он убивал себя тем, чем погубил сына: от этого становилось легче). Тогда Жанна вычеркнула из своей жизни и Спартака, которого за год до рождения сына буквально заставила на себе жениться. Она грозила утопиться, если Спартак посмотрит на другую и не будет принадлежать только ей. Еще какое-то время после развода они жили вместе, в одной квартире. Тогда же у Спартака появилась любовница, хохотушка Нинка, и обе возлюбленные, к удивлению философа, мирно поладили. В его память запала одна сцена, которую он никогда не пропускал в своих излияниях:
– Они обе лежат на диване, хохочут, а я танцую посреди комнаты вот на этом самом коврике, что сейчас у меня под ногами. Поехал, навестил в сумасшедшем доме Эмку – и танцую. А они лежат и хохочут… – всхлипывал Спартак.
Жанна (Жан, как называл ее Астрогов) вскоре вышла замуж за инженера, ответственного работника главка. В этом браке, словно в укор Спартаку, Жан родила двух вполне здоровых детей. А Нинку сменили Верка, Надежда, Любовь, Галина… Они скрашивали одиночество Спартака, но привязан он был только к безмолвному детенышу с лишней, по меркам природы, хромосомой.
Валентин Сократович временами включался, наизусть зная события саги, но думал о своем. Его тоже вычеркнули из жизни. За что, собственно? За правду? Да будь она проклята, правда. Терять такую женщину из-за банальной мысли? Дурдом какой-то.
– И вот я вхожу на кухню и кричу: «Муха, ты где, муха?»
Это Спартак перешел уже к рассказу о периоде отчаянного одиночества, когда он зимой, обалдевший от угрюмого молчания стен, прикармливал муху, неизвестно как очутившуюся у него на кухне. Уходя на работу в свой университет, он аккуратно выдавливал полновесную каплю молока на полированную поверхность стола.
– Слышу: жужжит. Ах ты, красавица, – пускал слюни матерый философ.
«И ведь так отомстить, с такой ненавистью, будто кровному врагу», – продолжал думать о своем Ярилин. Ему смутно припомнилась какая-то чувствительная история об одной даме, которая так ненавидела мужа при жизни, что после смерти его изменила с кем-то на могиле почившего супруга. Получила большое удовольствие. Просто это или сложно? Есть тут тайна или нет? «Во всяком случае, это ничуть не загадочнее, чем танцы ополоумевшего папаши перед бывшей женой, весело отправляющей своего вчера еще возлюбленного в объятия случайной любовницы. В жизни есть какая-то высшая простота, которая мне пока не дается. Спартаку дается, а мне нет. Чему-то он меня учит, а чему – не пойму…»
– Если бы не ты, Сократыч, пропал бы я ко всем чертям, – плавно перешел к следующему разделу неугомонный аэд и акын.
– Да не пропадешь ты со своими железными мозгами, – вяло реагировал Валентин Сократович бодрой репликой, ибо ему отводилась роль скромного, но верного и преданного друга. – Это я могу пропасть. А ты выживешь, Спартак.
– Выживешь… А ты думаешь, легко мне было?
Раньше Спартак никогда не жаловался, все больше ёрничал. А последнее время как-то стало разбирать Евдокимыча. Сколько ж ему? Пятидесяти еще нет. За сорок пять – будет, а пятидесяти нет. Интересный возраст. Пора бы все понять, а тут как раз неразбериха.
– Я достаю его из-за пазухи, ставлю на пол, а он дрожит, понимаешь, беззащитная такая тварь… Я его пихаю к блюдцу с молоком, а он на ножках качается и тоскует. Дуррак, говорю, Тимка…
Пошла предпоследняя серия: притча о явлении в квартире измученного философа лопоухого кобелька Тима (презент Верки), рожденного, хотя и незаконно, по недосмотру, простой сучкой от великолепного тибетского терьера. Умный песик уже давно ждал приближения этого момента, переживая звездный час своей жизни, и шустро выбрался из-под стола, уставившись невыносимо преданными глазами на хозяина. «Бастард!» – заскулил Спартак. Пошло взаимное лобызание, взволновавшее Тимоху почти до истерики. Он возбужденно лаял в пространство, желая защитить своего нетрезвого господина от напастей, карауливших человека изо всех метафизических щелей. Потом, символически исполнив свой долг, стал аккуратно (порода!) догладывать рыбий остов из тарелки хозяина. Природа и кормила, и ела, и переживала, и думала…
В заключение Спартак вновь вернулся к Эмке, но на сей раз на полноценное жизнеописание сил уже не осталось, и фрагменты теснились, наплывая один на другой.
– Помнишь, как мы с тобой Эмку зимой выгуливали? – слабоумно всхлипывал доцент. – Мы его перебрасываем друг другу на руки, а он смеется…. А помнишь, как мы его летом купали в озере?
– Помню, помню, Спартакус. Хватит об этом. Мне пора.
– А помнишь, как я его на велосипеде катал? Он же сам держался руками за седло. Смышленый пацан… Правда, падал.