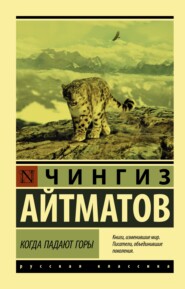скачать книгу бесплатно
– Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы ни достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных.
– Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит, космический монах накрыл нас с генетическим поличным?! Но, как это ни глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли, мистер Борк, в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания?
– Разумеется, есть, поскольку мазохизм – это жалоба в пустыне на отсутствие леса.
– И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет?
– Пожалуй, одно – выращивать в себе лес новых прозрений.
– Что это значит?
– Что это значит? Цепкий ты журналист! В свете философских открытий это может означать одно: нужно внять сигналам кассандро-эмбрионов, каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха рождаться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа, необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом и пишу в своей статье для «Трибюн». Извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордоку. Он тоже озабочен.
– Да, мистер Борк, в этот раз нашему Ордоку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует, когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция!..
– Не совсем так, Энтони. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику. Причем в очень жесткую. Поскольку дело касается жизни людей.
– Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность Ордока. Но это и форма его политического существования. Но это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борк, виноват, с вами не наговоришься. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет.
– Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить.
– Пока, мистер Борк. Значит, если захотите посмотреть передачу, – митинг в «Альфа-Бейсбол» с шести до восьми, а пресс-конференция в отеле «Шератон» – с девяти до десяти.
– Спасибо. Буду иметь в виду…
VI
Тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне – с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц, прощально кружащихся над крышами загородных домов… И слышались где-то по соседству голоса играющих детей. Тишину, умиротворение дарил тот солнечный день всему живому – созерцание собственного бытия…
Так бы и завершился в череде своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешало. Но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе. И как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу.
Роберт Борк посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордока с избирателями с таким волнением, точно это ему, Борку, предстояло выступить с речью, добиваясь президентского кресла, точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овладеть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борк и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного – дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании и не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения. Чудак и только! Болельщик нашелся.
Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела, он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку. Слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир, в иные переживания, к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка – это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор, как радар, улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, музыка – это звуковое преображение вселенского Пространства и Времени. Разумеется, этими своими «открытиями» он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знала. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться: думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени, он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта. И очень вероятно, что никогда не будет раскрыта.
В этот раз, однако, Борк убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море… Этого-то ему сегодня и недоставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задерживалась на репетиции. Был час пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борк дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить. Ведь «Трибюн» хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно сознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедления, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу; он это чувствовал почти физически, текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу.
Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыхание… Он обзывал себя параноиком, как может привидеться такое?
Он ходил взад-вперед то в дом, то из дому, поглядывал на часы, музыку слышал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил, и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать; о том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать не глядя – все та же телесуета… Джесси все еще задерживалась…
Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться. Но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из «Трибюн» почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение – как быть, отвечать ли прессе на столь нетрадиционное, если не сказать одиозное, обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать?
Роберт Борк живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда проблема кассандро-эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий.
Ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недосягаемого слияния с Богом, в той же степени себе на уме – Бог Богом и даже Бог един для всех, но свое есть свое, а чужое – это чужое, свое и чужое – вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояние в мировых структурах духовенства и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы, полагал Роберт Борк, которые непременно попытаются обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе – или предавая космического монаха анафеме и набирая тем самым политический капитал, или приспосабливая открытие тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих.
И снова думалось ему о том, что, бывало, приходило на ум, поначалу мимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам, на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентируемой, свободной причастности – если он, разумеется, верит в Бога, – ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым «статусом», когда бы он был приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключающих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом, и прочим в этом ряду верований, и каждой религии – его любовь и уважение, а ему – признание его всеми культами, и он бы свободно принимал их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений – все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я – желанный паломник… Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера… Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей…
Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное, – обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути, в деяниях, а не только в прекрасных теориях…
Борк, безусловно, понимал, что это скорее всего странная, а возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненной установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им втуне. Воздерживался, даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов «преуспеть» прежде других.
Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть – изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Рушди, приговоренного к смертной каре мусульманской иерархией, кровно оскорбленной за своего великого пророка, при сопутствующем безразличии других религий, даже такая участь могла бы показаться еще завидной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить себе укрытия, а ведь весьма вероятно, что при случае у ратующего за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретику тому, везде отверженному и отовсюду гонимому всеми разгневанными культами, не найдется на земле места приклонить горемычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда? «В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос, к Филофею, – иронизируя над собой, подумал Роберт Борк, и пришла вдруг мысль в голову: – А ведь в самом деле, может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда с недосягаемой высоты, сказать людям на Земле правду?» Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борк чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы – было уже шесть. Он кинулся в гостиную, к телевизору. Успел в самый раз! Ведущий приглашал телезрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-Бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером Ордоком.
И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было – не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражение, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты: «Он знает социальные низы!», «Ордок – будущий президент!», «Ордок выдвигает новую экологическую программу», «Безработные верят в Ордока!», «Феминистки требуют приоритета!», «Отдадим голоса за нашего Ордока!» и тому подобные. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом.
И все разворачивалось, как положено на такого рода публичной встрече. С шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрыми голосами комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными, при своем, едва ли среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка оживляла его блеклые, стертые губы, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конферансье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Ордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, наперебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга, лишний раз подчеркивая при том американскую демократию в действии и деловитость устроителей предвыборной кампании.
И у Борка, непонятно почему весь день беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности.
И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже – на Оливере Ордоке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордок выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, когда касался животрепещущих вопросов. Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информации, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдельности, и все вместе взятые чего-то недоделали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась, весь зал возбуждался, и на этом он, Ордок, расцветал, возрастал в своих глазах и в мнении собравшихся. Это был успех.
Роберт Борк внимательно следил за Ордоком, пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему, быть может, на таком огромном политическом сборище и не следовало затрагивать подобное? Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни с тем, чтобы этим исчерпать регламент?
Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом:
– Мистер Ордок, – раздался звонкий женский голос. – Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в «Трибюн»? – Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная.
Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными.
– Да, уважаемая Анна Смит, – сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице, – я читал этот документ и много думал о нем. И, не скрою, предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. Так вот что я хотел бы сказать в этой связи, – продолжал Ордок. – Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики. Но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испытаний. Увы, самооценка наша оказалась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается!
Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывали, укрупняя, лица присутствующих, замерших с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борк застыл перед экраном, очень сожалея, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей?
– А что же делать? – переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно.
– Я думаю, – отвечал на это Оливер Ордок, – что каждый должен решать сам. – В зале послышался глухой рокот возгласов. – Ну, а если по большому счету, – начал рассуждать Ордок, пытаясь погасить рокот в зале, – то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филофей, то ли биологической, принимать меры по борьбе с явлениями, вызывающими эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов, то есть стремление отказаться от жизни.
– Позвольте мне сказать! – раздался еще один женский голос. Какая-то женщина типа мулатки, брюнетка со сверкающими металлическими серьгами, в желтой блузке с распахнутым воротом, весьма решительно возникла у микрофона в одном из проходов между рядами. – Я не могу молчать, и мы не должны молчать! – заявила она, оглядываясь по сторонам. – Да, у нас совсем не легкая жизнь в наших кварталах. Но мы всегда жили, желая иметь детей, радуясь их рождению. И пусть никто в это не вмешивается! Какое ему дело, космическому монаху?! Почему он преследует меня? Почему вмешивается в мою личную жизнь? Я категорически протестую!
В зале вновь пошел гул, и многие присутствующие согласно закивали головами, иные вставали с мест и махали руками в знак одобрения.
Ордок пытался успокоить мулатку:
– Да, я вас понимаю, мадам, но ведь появление тавра Кассандры oт нас не зависит. Мы должны открыть глаза на то, что это – существующая реальность.
– Если с трибуны будущего президента потакать этому космическому монаху, тогда другой разговор! Пусть он явится сюда, пусть скажет нам, женщинам, чем мы прогневали небеса, на которые он забрался и шпыняет нас оттуда, позорит на весь мир! – не унималась женщина, сверкая штампованными серьгами и возбуждая вокруг волну солидарного с ней протеста. Возможно, она и дома умела закатывать сцены, а быть может, у нее не было ни дома, ни мужа. «Какое несчастье, – шептал Роберт Борк, – какое трагическое заблуждение. Она так страдает, и ее можно понять».
А женщина, еще больше неистовствуя, продолжала:
– Вам легко рассуждать, легко называть его гениальным ученым. Он, мол, открыл нам глаза. А для меня этот тип на орбите – негодяй! – выкрикнула она, выплескивая ярость.
При этих словах гудящий зал разом онемел, на секунду воцарилась полная тишина. Никто не одернул ее, никто не попросил ее придерживаться общественных правил поведения. Не посмел напомнить ей об этом и сам Оливер Ордок, оказавшийся в нелепом положении. И последовала сцена, потрясшая в Америке многих из тех, кто в тот час оказался у телевизора.
– Вот, смотрите, мне нечего скрывать, вот, смотрите, как мне быть?! – выкрикнула женщина, нервно дыша, и ткнула пальцем в свой лоб. – Вот уже несколько дней на лбу у меня эта самая напасть, пятно, тавро Кассандры, как именует эту гадость космический дьявол! – и лицо ее предстало на телеэкране крупным планом, и ясно стало видно в ту минуту на лбу у женщины зловещее багровое пятнышко, ритмично пульсирующее, как тревожный сигнал.
– Я уже и кремом, и пудрой замазывала, – проговорила она, прикрывая ладонью мелко дрожащие губы. – Не помогает. Не исчезает. Ни днем ни ночью! И выходит, я на контроле у этого злодея из космоса? И выходит, он мне тычет в глаза: смотри, мол, твой зародыш – против тебя же, против матери, против жизни, он шлет сигналы, чтобы его умертвили! Выходит, он не желает родиться, он боится жить? Так выходит? А кто ему внушает такое отвращение к жизни, кто его толкает к смерти, еще не родившегося, кто его принуждает отрекаться от белого света? Кто вмешивается в мою личную жизнь? По какому праву меня облучают какими-то страшными зондаж-лучами из космоса? Вот мы сидим здесь, а он, этот, как нам внушают, гениальный Филофей, шарит своими лучами из космоса, ищет в женщинах кассандро-эмбрионы. Контролирует нас! Тычет нам в глаза, какие мы дурные! А что поделать?
– Думаете, я одна такая? Да и в этом зале наверняка есть такие же, как я, может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро Кассандры?! И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша потому, что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его? Или я должна уготовить ему рай земной?! А как? Я бы и рада! Но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? – и она тяжко зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи.
И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза. И все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму.
И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу:
– Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. Возможно, стоит специально… – начал он, но его снова перебил голос из зала:
– Извините, мистер Ордок, – обратился мужчина от микрофона в дальнем углу, – я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но, видите, все страшно переживают. Я сам врач и я потрясен, я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких! Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был?! Во-первых, это нарушение нашей Конституции. Возникает вопрос: мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирать права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав, вполне допускаю, но на практике – нет, он не прав. Мы не подопытные крысы!
– Верно! Браво! Верно говорит! – раздались голоса с мест. И зал забурлил.
Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планом самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале. И именно в ту минуту Борк заметил те самые «суповые» пятна, вновь появившиеся на лице Ордока, проступившие вдруг откуда-то изнутри, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные – такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему жалко, тот оказался в унизительной ситуации. «Вот не повезло, так не повезло, – терзался Борк за своего однокашника. – Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал, отстоять свою точку зрения. И тогда он завоюет прежние позиции. Но сумеет ли? О боже, какая нелепость! Мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих! Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале!»
– Я прошу вас, мистер Ордок, от себя и, если ко мне присоединятся, от имени избирателей. Этого нельзя так оставлять! – превозмогая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назвался врачом. – Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом, это его дело, не наше. А мы – американцы. Мы – суверенные личности! Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов! Пусть свое слово скажет Конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы!
– Правильно, верно! Надо запретить! – доносились отовсюду крики. – Запретить!
– Спокойно, джентльмены! Прошу вас, дамы! – старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором в напомаженных волосах, строго одетый, судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью. Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. – Я прошу соблюдать очередность у микрофонов! – призывал он. – Я дам вам слово, только по порядку, прошу вас, пожалуйста, по очереди.
Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами.
И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов:
– Первый микрофон! Слово второму! Пожалуйста! Третий микрофон! Пятый, седьмой, десятый…
От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что-де в космосе появился мировой провокатор, злостный вселенский смутьян; а один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея, по аналогии с кагэбэшными доносчиками, космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей – российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задание погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе; еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая-де задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся. И дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического – космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент – космический Фауст…
Но поскольку большинство, многие-таки высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессировавшего из века в век, не ведая ни о каких «знаках Кассандры», то все это производило поистине сильное впечатление, особенно когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зондаж-лучей в их личную жизнь. И наконец в ходе выступлений прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой ООН, поставить вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.
Тяжко, прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытка Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, предопределенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползнем в недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимания у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный, инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью. Однажды дарованной и неповторимой, данной каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитированной и ограниченной в Пространстве и Времени.
На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борк представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах, и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока.
Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею, именно Филофей, находящийся невесть где, в космическом пространстве, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президенты. А он меж тем продолжал зачем-то оставаться на трибуне. И на его глазах все превратилось в базар. А все, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордока, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильный и униженный, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощник, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал, провал на глазах всей страны.
Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломинка утопающему. Откуда-то сбоку на сцену выскочил молодой человек спортивного вида; он решительно подошел к ведущему, продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон. И громко сказал, обращаясь к залу:
– Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление! Это очень важно!
Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина. И нельзя было терять ни секунды.
– Мое имя Энтони Юнгер, – представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек.
«Так вот он какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень», – подумалось Роберту Борку.
– Оно мало что вам говорит, мое имя, – сказал Юнгер. – Но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордока, я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордока высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы.
Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борк порадовался за Энтони Юнгера. Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борк, не мог ожидать.
Следовало отдать Ордоку должное – он не упустил возможности перехватить инициативу:
– Да, я продолжу свое выступление, – изготовился он тут же, и что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося вмиг. Он на что-то решился. – Да, уважаемые избиратели, для того я здесь и стою, чтобы продолжить свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой. – Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: – Я как раз буду говорить о Филофее, – подчеркнул он.
– Буду говорить в продолжение того, что говорилось здесь от микрофонов, в развитие того, что связано с психологическим наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом, о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен, правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще – хочет он того или нет, – под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно, но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать. Но перейти ко второй части выступления, выразить свое собственное отношение к посланию Филофея, как вы понимаете, я просто не успел. То, что говорили от микрофонов, как раз совпадает с тем, что хотел сказать я. И это замечательно, это укрепляет меня в моей позиции. Я полностью разделяю мнение, что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность. Эта акция человека, назвавшегося монахом Филофеем, нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле – это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических высей, Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело! И эти люди заодно с Филофеем ждут своего часа икс, готовые немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на земле великую смуту, посеять сомнение в полноценности нашей и, главное, – опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками – тавром Кассандры. Подумать только – тавро Кассандры, предсказательницы бед и несчастий! Ведь и названо оно так вовсе не случайно. С каким коварным намеком! Так будем начеку! Начеку необходимо быть всей нации! Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса. И никакого преувеличения, уверяю вас, это – заговор против человечества. Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели!..
Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидата в президенты, люди сидели, не сводя с него завороженных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок теперь, находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-Бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову – слову Оливера Ордока. Безусловно, это была победа. Блестящая победа Ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды.
И сам Ордок был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой, непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояние особой экспрессии и эрекции слова; ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупляются с окружающими и прежде всего с восхищенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, подставлялись ему и охотно ловили его каждый для себя, и от этого приливала в нем мощь, как у жеребца, с громким ржаньем и жарким храпом набегающего на кобыл в табуне; каждое слово добавляло кипящей силы и предощущения близости совокупления со столь желанной и пока еще не достигнутой потенциальной властью. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от тварей лесных, волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал через потоки речей, когда слова, сплачиваясь рядами, шли на штурм противостоящей крепости, в данном случае – идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки.
О, это был звездный час Оливера Ордока. И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране поблизости от трибуны. Энтони Юнгер сидел с краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попадания в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук, ему было явно не по себе.
А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лобызал, опутывая словами, ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка.
– Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, – напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в «Альфа-Бейсбол», – то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслыханной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе и в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь, на предвыборной встрече, – как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда, экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала!
– Не будет этого! – раздались в зале гневные голоса. – Этого мы не допустим!
– Я тоже так думаю, – продолжал Оливер Ордок. – И я положу на это все свои силы. И не остановлюсь ни перед чем. Но как, каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на земле подставляет услужливо плечо Филофею, подогревает обстановку, а говоря по-простому, – мутит воду? Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать – нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними в генетическую западню, какие бы высокоинтеллектуальные доводы они ни приводили! В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха. В бывшем Советском Союзе молодых людей, которые верой и правдой служили вождю и счастливы были отдать за него жизнь, называли, если не ошибаюсь, комсомольскими активистами. Подручный Филофея похож на них, хотя ему совсем не мало лет, работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов, – зовут этого человека Роберт Борк!
Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот: «Роберт Борк! Роберт Борк! Это Роберт Борк! Какой-то Роберт Борк!»
– Так вот, уважаемые избиратели. Как я ни пытался, разумеется, очень уважительно выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я ни пытался тем не менее обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом, я увидел, что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло! Для Роберта Борка его философские бредни, его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борк игнорирует, приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему воспроизводство человеческого рода, лишающему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера при этом ни выдвигались. Роберт Борк фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: