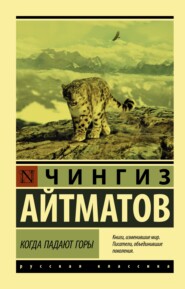скачать книгу бесплатно
– Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг говорит: завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще та. А у меня, мол, что? А ты ему: жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру, пусть и седую, и косматую, никак! А у него аж слезы на глазах, вроде, и смеется и плачет, артист!
Борк задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее, с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне, невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим.
– Боб, а ты действительно видел китов в океане? – прервала его мысли Джесси.
– Ну как же! Я потому тебе и звонил, – оживляясь вновь, заговорил он. – Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные, плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет. Но, хорошо еще, дозвонился. – Борк помолчал и затем продолжил, увлекаясь: – И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Вот послушай. Во Франкфурте в этот раз кроме знакомой публики был один новый участник, из Австралии. Из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор, случайно, конечно, о китах, начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смешным, очень сблизил нас. Мне было так интересно! Ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов.
– Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду?
– Да, именно это. Так вот, что заставляет китов, полных сил и, надеюсь, умственного здоровья, вдруг, ни с того ни с сего, как сговорившись, подплыть ночью к берегу и швырнуть себя на отмель, где воды по щиколотку, на издыхание? И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают, отчего, почему?
– Но постой, – перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами. – Сколько раз об этом писали в газетах. И что, твой австралиец знает, отчего это происходит?
– В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление – самоубийство китов – противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть – природе вопреки. Такого нет в животном мире.
– Зато среди людей сколько угодно.
– Это совсем другое. Категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.
Роберт Борк замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах и невольно безотчетно любуясь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым – на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее, как поразится она услышанному, как потом, увлеченные открытием, они будут снова и снова возвращаться к этой теме, обсуждая ее с разных сторон. И это будет счастьем. Ведь счастье – в единении душ. И ему захотелось, приехав, посидеть вдвоем на веранде, послушать поставленную Джесси музыку (она неисправима – классика для нее превыше всего) и позволить себе любимого белого вина… Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идиллии сегодня может и не быть.
– Что ты замолчал, Боб, я жду. Решил меня заинтриговать?
– Да нет. Просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь – знает ли он, этот австралиец Киффер, причины самоубийства китов. Как тебе сказать. Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. Я бы сказал, это особое нравственно-философское видение. Да, да. Не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих киты, наряду с дельфинами, – самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними.
– Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском видении ты говоришь?
– Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А Киффер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера.
– Так в чем же суть его гипотезы?
– Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события.
– Ну, это совсем фантастика, Роберт!
– Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой. Ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом, на вселенскую миссию, а если мы не в состоянии совершенствоваться, не в состоянии активно осваивать универсум, что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете, то, стало быть, мы – паразиты, не оправдывающие своего назначения, никчемные твари. Но извини, я несколько увлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что, сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено: гармонизировать, совершенствовать бытие, а сюда включается все, что исходит от нас – и в помыслах, и на практике. Гармония бытия! Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается, сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу, а ведь гармония – это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос – а что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе перед природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим?
– Роберт, – не утерпела жена. – Воистину, в тебе пропал пламенный проповедник, жить бы тебе в Средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога?
– Ах, вон оно что? Вот и ты, Джесси, становишься дотошным догматиком. Как можно?! Как можно?! Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да. На то нам и дано свыше слово. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно, в конечном счете – это реализация слова. Мост через реку – вначале это было словом. Я больше скажу, слово – потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается. И потому оно – Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах – то на крыльях летим в бесконечность, то под уздцы неизбежности ведомы словом, как мулы… Но я ведь о другом. О другой, как раз диаметрально противоположной ипостаси бытия – об изначальном отсутствии слова. А это – вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания. Лишенным дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем. Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам.
– Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?
Роберт Борк замолчал, приостанавливая себя перед тем как высказать то, что было для него столь важным. И поймал себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке.
– Понимаешь ли, – продолжил он, – Киффер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты – это живые радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; быть может, именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов, и безмолвно ревут от напора внутриземной энергии, но, должно быть, самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам, самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих не постижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор, – ты знаешь, о чем я говорю, об этом существует целая литература, – ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели – всегда дефицит, зла – всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, что мы не в силах остановить и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому. Лишенные дара речи, киты не могут выразить, насколько они страдают за нас, и как это давит, душит, разрывает их изнутри, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно! Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавец, а она, несчастная, бегала, не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное, только в иных, вселенских масштабах, происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу за полыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но сдвигов в человеческом поведении, злодеяний, садистских и неискоренимых, – вот этого они не в силах превозмочь, – такого, понимаешь ли, нагнетания губительных страстей человека, носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее, ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас, в стихии нашей, происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространяется из того обвала по миру, нарушается космическая справедливость, думаю, что существует такая справедливость, искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают и тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разом, выбрасывают себя на погибель, совершают самоубийство. И вот, представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, вдруг на развороте под крылом – стадо китов в океане. Я обомлел, когда увидел, как шли они журавлиным клином среди волн, дух захватило, и в то же время я подумал почему-то: куда они, какая сила гонит их, куда и зачем?
– Ну теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить: какие киты, что происходит? Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить?!
– Думаю, что не просто вообразил.
– Ну-ну, – снисходительно улыбнулась жена. – Футуролог мой дорогой! – Она смотрела на него с легкой иронией. – С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста? Как знать. Ой, Роберт, нам надо заправиться, смотри – бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали…
Они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни, враз отступили и космический монах, и киты, и всякого рода абстракции. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного.
Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борк сказал:
– Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат, запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги…
– На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу.
– Оливер Ордок?
– Ну да. Он же выставил свою кандидатуру в президенты. Ты это знаешь?
– Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. Ну, от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора.
– Ну, извини, Боб. Я не могла отказать.
– Позвонит так позвонит. Ради бога. Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения. Помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордок участвовал как политолог и как представитель администрации штата. Да, перестройка, перестройка! Все мы было встрепенулись и на Востоке и на Западе, что и говорить! Романтическое время. Он-то помоложе меня, хотя и ему уже, пожалуй, порядочно.
– Пятьдесят шесть, – подсказала Джесси. – В газетах так и пишут: пятидесятишестилетний Оливер Ордок.
– А, ну вот. Примерно так я и думал. Выходит, отважился наш Оливер Ордок, решил судьбу испытать. О, магия высшей власти! А вдруг да получится?.. Избирательная кампания, что море открытое, пойдет волнами, глядишь, и вынесет к берегу. Если суметь вызвать общественный прилив. Чутье проявить. Ордок в этом смысле вполне в своей стихии. Человек он хваткий, не глубокий, но и не глупый.
– Да, помню я то время. Хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были, а, да, это в восемьдесят шестом, когда ты выступал в Кремле, в том огромном зале старинном, на форуме, Горбачев сам вел встречу. Ордок тоже был с нами. Помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно.
– Недурно. Совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата. И харизматизм личности.
– Ой, Роберт, довольно, что это мы – то про китов, а теперь вот на Оливере Ордоке зациклились. Будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались: Ордок да Ордок…
– А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности, а она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение.
– Ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы?
– А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль, враз, так сказать, с панталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина. Хотя трудно сказать.
– А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордоку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят: известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы – с чем будем кушать сенсацию, дорогой Ордок? Почему бы и нет?
– Конечно. И все-таки ты сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснения по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк?
– Коли фейерверк, подурачимся, повеселимся.
– Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят.
– Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз – и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезная репетиция с оркестром… О боже…
– Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси… Вот мы и приехали.
IV
Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борк поговорить с кандидатом в президенты мистером Ордоком. Затем в разговор вступил сам Ордок. При том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельски-непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому.
Началось все с шутливого захода:
– Хелоу, Роберт, с приездом, и должен сказать тебе: в этот раз я ожидал твоего возвращения как никто другой на американском континенте, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины, и уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок!
– Спасибо, Оливер. Франкфуртянки действительно хороши. Но думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. Что-нибудь происходит? Давненько не виделись.
– О да. Происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. Сам понимаешь, черт меня дернул, – кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях, – так вот, пока ты ездил по Европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании.
– Знаю, знаю. И надеюсь, это всерьез.
– Очень даже всерьез. В сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кровно заинтересованных. Но не об этом речь, как-никак то – оркестр, а арии-то петь – твоему самоуверенному другу, то бишь мне! Что это значит, не тебе рассказывать. Только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться. Ты сам прекрасно представляешь. Нарабатываю рейтинг на встречах с широкой публикой (толпой называть не хочу, ни-ни, ни в коем случае, да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях). Но все-таки скажу тебе по-свойски, кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях, так вот, популизм равносилен вхождению во взрывоопасную зону: не так наступишь, не так ответишь, не так среагируешь, одних удовлетворишь, других – нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное – доходчиво изложить публике свое видение проблем. Вот чего они ждут, избиратели, – решения проблем. Да-да, решения проблем. Алло, алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это, самому даже неудобно. Но такова теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице.
– Не волнуйся, Оливер. Я слушаю, слушаю тебя.
– Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю! А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе. Всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле – необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай бог здоровья конституции и существующим законам, но, будь на земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать? Кто за кем бы пошел, не будь кризиса? Я так понимаю. Ну вот, ведущая концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы – как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе не покажется смешным, но люди, понимая, не понимают, их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут.
Пока Ордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борк чутко улавливал в потоке его речи не только знакомые мотивы предвыборной маяты претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плот к берегу.
Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он-де отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой словоизлияний что-то, волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать.
Борк живо представил себе его на другом конце провода, в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения, за столом, среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, во вращающемся черном кожаном кресле, сидящим, чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордока существовали о нем самые разные мнения – за и против, не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и т. п. И что у него собачий нюх политика-популиста. А о ком подобных разговоров не бывает? Тем более когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе общественное внимание, набирает, на зависть другим, очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его.
Ордок выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении, замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени, или, как он сам любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов и воздействовал на эту стихию, стоически относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человека. Ордок даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистая шея. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее лицо экзальтированного Геббельса, нечаянно обрызгано супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордока – психический показатель его честолюбивых вожделений, жажды власти. Что если бы судьба не улыбнулась Ордоку наконец-таки, такими «кричащими» пятнами покрылось бы все его тщедушное тело, с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки. Понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордоку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась «витилиго». Чудесное же исчезновение с лица Ордока суповой пятнистости объясняли резким внутренним преображением его благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь эта уже и забылась. Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен, со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордока, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордок прекрасно говорил: хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну, алчущему внимания толпы.
Но больше всего занимала Борка в Ордоке одна совершенно немыслимая и, должно быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно, расскажи кому-нибудь, – ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борк же знал об этом не понаслышке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы, – Борк чуть пораньше, а тот чуть попозже, Борк на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни! Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры! Он мог сказать с точностью до дня и часа, с кем и когда он общался по телефону десять – пятнадцать лет тому назад, даже по незначительному поводу; предположим, звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году, 12 августа в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борк даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смехом и страхом, ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность, а зачем? Дана свыше как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает?
Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонное многословие однокашника. И подумалось: «А возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню и я… А зачем?..»
Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка:
– Так вот, Роберт, к чему я веду разговор, ты уж прости, что приходится начинать издалека; произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобраться, как говорится, с ходу. Разумеется, ты уже в курсе дела, об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах, как его там именуют, – Филовей, кажется? Филовей?
– Филофей, – поправил Борк. – Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад.
– Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема кассандро-эмбрионов как кирпич свалилась. Лучше бы землетрясение случилось. Лучше бы не знаю что… Я в полной прострации, извини меня. Никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна, а теперь стою на краю. Я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копья? То есть я хочу сказать, это что-то абстрактное. И в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох, быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях.
– Извини, Оливер, – перебил его Борк, – я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно, почему ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? Мы с тобой из одного университетского инкубатора, я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки?
– Я буду откровенным. Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник – Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией. Я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытаращенными глазами, и каждый с «Трибюн» в руках, все мои советники и помощники, обалдевшие, что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь: демократия и народ – суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам, но когда я представил, что меня спросят об этих кассандро-эмбрионах, знаешь ли, на душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса?! А впереди – целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидываю, как быть? Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да об этом знают все, весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неуемности нашей американской. Демократия – как самоцель! Вот именно! Но извини, ради бога, опять отвлекся. Так вот, о чем я? Да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только, все ли коренные зубы у меня на месте, и получить подтверждение от моего дантиста, но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводить – ни да, ни нет? Для политика это совсем негоже!
– Ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом?
– Не сомневаюсь! И гадать не стоит!
– В таком случае напрашивается одно – принять открытие Филофея к сведению как своего рода пароксизм нашего самосознания, как корректирующую поправку к самим себе, выявленную через космос. Как новый ракурс внутреннего видения, обретаемый через космическое зондирование. Не так ли?
– Наверное, так, но не знаю, я пока не готов к подобным заявлениям. Хорошо говорить с тобой, но как объяснить людям, что предполагается подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес – о каких-то кассандро-эмбрионах, об их отказе рождаться, в общем о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды. А ведь Филофей обращается к папе римскому, а по сути – ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой!
– Позволь, позволь, Оливер, во?первых, не ты один, – попытался было Борк уточнить положение вещей. – Тут все…
– Понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера, что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это так кажется на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать, наше время – время уличных апелляций и требований толпы, перекладывания личных забот на административную систему. СПИД и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек – такое существо, чуть что не так – винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха, куда ее валить, на кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз – я имею в виду собратьев своих, политиков, – изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем.
– Да, друг, сегодня ты в ударе. И я тебя понимаю, Оливер. Не думай, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке. Хотя должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждения Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его «филофеевым комплексом», то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть.
– Даже так? Ну ничего себе, ничего не скажешь! Радикальный подход! – В голосе Ордока послышалось неподдельное изумление и огорчение. – И что же в таком случае дальше?
– Что ты имеешь в виду?
– А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем, – это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к «филофееву комплексу». Не хотелось бы недоразумений на этот счет.
– Ну да, я тебя понимаю, – согласился Борк. – Следует подумать…
– А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности – я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек – и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю соображать с твоей подачи, абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое, независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку. А иначе мы не американцы!
– Да, уж это точно, так и есть, – посмеялся Борк и добавил: – Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае, специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах, особенно остро откликнутся густонаселенные регионы, в первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступать со своей предвыборной программой? Так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе промелькнули данные о рейтинге кандидатов. Прикидки. Прогнозы. У тебя вроде совсем неплохо. Знаю и твоих конкурентов.
– В том-то и дело. Фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор! Филофеев комплекс!
Борк попытался его успокоить:
– Но я думаю, что сейчас, пока не осмыслена ситуация, говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается.
Оливер Ордок тяжело повздыхал.
– Ты не совсем прав, Роберт, – возразил он. – Разумеется, я не несу за всю эту историю никакой ответственности. Но меня волнует, как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. Я отнял у тебя много времени, так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому, что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалам, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах бывалые политики, я среди них новичок. Сейчас, ты знаешь, первый тур, и, если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылечу из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором, совсем ни к чему, но и революционность – всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей – совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к Олимпу. И тут на тебе – такая оказия: привет от космического монаха! Что сказать – что я с ним, или послать его ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы! Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости. Не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема.
– Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, – отвечал Роберт Борк, удивляясь энергии и напору Ордока. (Борьба за политическое выживание – чего-то ведь стоит?!)
Кровь прилила к голове, в ушах зашумело, когда Борк представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется, к худу ли? И надо было отвечать на прямо поставленный вопрос.
– Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке, – проговорил Борк, машинально покачивая головой, точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, – то все равно было бы что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том, что, как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить.
– Верить?.. Но к чему это приведет, Роберт?
– К тому, чему пришло время. Вопрос стоит отныне так – принимаем ли мы к сведению открытие Филофея, или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит, и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье – пока не в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь в общем-то будет протекать так же, как протекала вовеки, но одно дело, когда мы не знали о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии кассандро-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь, прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя, или глянуть правде в глаза, предощутить апокалиптический исход, услышать голоса кассандро-эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно оповещено. То есть – диагноз поставлен. И вследствие этого, человек как бы заново открывает себя в себе – кто он есть в прорастающем семени своем, в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданные по наследству, в какую генетическую темь. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? Я так понял трактат Филофея.
– М?да, – натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал.
– Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь. Но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему. Ты слышишь?
– Да. И все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт. Деваться мне некуда – я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю, допустим, я встал на сторону забастовщиков или, напротив, пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида или, наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за что горишь, черт возьми! За дело! А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станции рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже! Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения.
– Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае – это явление, которое касается буквально всех людей на земле. Что там забастовка в той или иной отрасли, что там демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет в связи с открытием Филофея. Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему.
Они оба замолчали, одновременно задумавшись. И снова заговорил Оливер Ордок: