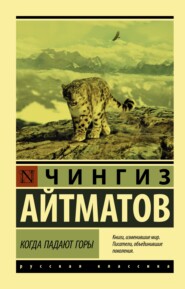скачать книгу бесплатно
Как же нам быть дальше, зная, что являет собой тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо, наконец, открыто признать что совершенное субъектом не уходит физически вместе с ним, с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно мине замедленного действия.
Кстати о мине замедленного действия, уже реальной, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые «трупные» ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же «контингентщики» залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв, и пришедших убивало на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения… Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре – перепуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на земле отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам… Случайный путник, не посмевший равнодушно проследовать мимо убитого при дороге. Слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть, и снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскроенным черепом убегает прочь нелепым скачем, потом валится с ног, дергается судорожно, храпит. И все это снято… Таким образом фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству «трупных» ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом. Какие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они, с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране? И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они, откуда они? Их родословная неизвестна, их предков не сыскать. Остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего.
И напрашивается вопрос – откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неиссякаемой милостью, неизменно полагаемся, как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах, – так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартующих в нас злодеяний? Откуда? От кого они сами?! Риторический, разумеется, вопрос… Но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то, да мало ли от кого в той сатанинской бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия; и как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножия восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимо-яростных глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную власть.
Кровь и власть – вот тот гумус, на котором семена зла всходят во лжи… Зло сменяется злом, оставляя семена свои для следующего зла…
Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле, – эпоха Сталингитлера, или же, наоборот, Гитлерсталина. Двуединая сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще, спустя многие десятилетия, не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междоусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм без большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот? Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнорожденных, но единоскрестившихся в карме преисподней Сталингитлере и Гитлерсталине.
И кто знает, не пытался ли в свое время кассандро-эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли Сталиным, не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир, и прежде всего вынашивавшую его во чреве мать, о своем предощущении будущего через тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного содрогания, желания уклониться от той зловещей роли, которая ему предстояла?!
Трудно сказать, что было бы, не появись они на свет… В таких случаях обычно говорят – историю не переделаешь. И, однако, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталиным для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, не виданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов во зле сумели столкнуть миллионы людей между собой и, в конечном счете, человечество с самим собой, как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездны человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кромешному исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации зловещего тиранического комплекса, безусловно, депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеявшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду.
Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей, сколького людского горя, скольких несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным методом провиденья и, в частности, знай они о кассандро-эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры. Увы, о том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно…
Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет. Никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии Добра и, наряду с ней и вопреки ей, – энергии Зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и, если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе Зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение.
Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира?
Так ли это или нет – трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие кассандро-эмбрионов привносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались.
Кто скажет, как следует относиться к сигналу кассандро-эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение? Или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо, через недели две странная точечка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, Бог даст, забудется.
Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем, не исключено, припомнится; возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи, и всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных, и будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке, порождая неизбежные вопросы. Странно, мол, подумается, почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя. Был ли подобный знак у других матерей, а если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя, стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что, если каким-то образом и ребенок подозревает об этом, пусть это таится лишь в его подсознании, смутно, как зыбкий сон, и вообще, отражается ли это как-то на его психике?
Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть, они, она, он во всем были виноваты? И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос, что именно могло повлиять, чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия, – вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, воздействовавших каким-то образом на эмбрион, не только себя как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе: их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения – все, что обусловливает, формирует и сотрясает жизнь человека, со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями – что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и т. д.
Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в Пространстве и Времени, это завязь истории в архетипах природы.
Кассандро-эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов – это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде не доступного нам. И каждый волен делать выводы сообразно своим понятиям и устремлениям души.
Пользуясь этим правом в данном случае, говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом, о том, что порождает эсхатологический комплекс у кассандро-эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем.
Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся в разное время на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян, более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель, моя программа космически-земная, я – экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это не громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеуслышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество.
Я провожу эксперименты по системному выявлению тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин. Это все равно как если бы все попадали под один дождь. И хотя эти незримые зондаж-лучи совершенно безвредны для здоровья, всякий раз при мысли о том, что я причиняю людям душевную боль, мне становится не по себе.
Но я не могу избавить их от переживаний в тех случаях, когда в ответ на космический «запрос» будет иметь место явственная мета сигнальной реакции кассандро-эмбриона. Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно понимать, что судьба эта, будучи конкретно-индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды – мировые.
Хотим мы того или нет, кассандро-эмбрионы и тавро Кассандры – реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто, сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на Земле. Люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, святой отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд.
Повторяю, я осознаю, что несу ответственность и перед кассандро-эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю (но ведь он сам добивается разглашения!), и перед матерью, его зачавшей, ибо, не знай она значения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно.
И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живо бегущие строки, мне тяжко; мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня.
Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подальше от компьютера, растерянно блуждаю взором, как бы ища нечто такое, что отвлекло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру, и взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран, на разных языках. Вот она, земная действительность, во всех своих ипостасях и неповторимой разности, от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и т. д. и т. п.
Среди этого глобального пейзажа мое внимание приковывает к себе экран, на котором какая-то шумная, наэлектризованная уличная демонстрация. И почему-то полицейские, их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами. Все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии тонут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко – все рядом: блеск глаз, жестикуляция, нервное выражение лиц. Да, это на Сицилии. Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно! Опять мафия! Опять террористы! На этот раз убит главный судья, вслед за прокурором! Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено – всё и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его охранники. Сработано все безупречно и на виду у всех.
Демонстранты в отчаянии… Они прут рекой. Но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не находятся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой, а они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уже целые страны, колонии мафии!..
Демонстранты идут… А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет, густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть – череп с костями… О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть, всем, кто против мафии! Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме, в берете, сбитом набок, с развязавшимся галстуком. Женщина-полицейский с видеокамерой, судя по всему, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиози не так глупы – вертолет будет перекрашен, искрошен, все что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят. Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии! И им это грозит. И ей тоже. Но что я вижу: на лбу ее обнаженном характерное пятнышко – тавро Кассандры! Да, как знал! Я приближаю и укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотруднице полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку. Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практический результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции кассандро-эмбрионов на зондаж-лучи.
И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному кассандро-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он (или она) может оказаться одним из самых ужасных преступников. Многим людям, всему обществу принесет он страдания и несчастия, пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности – его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир! Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет, если он, этот кассандроноворожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его; в других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется, – так же, как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы – все катится само собой.
Вслушиваясь в сигналы кассандро-эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, – это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем беспрерывном грехопадении в импульсы нарастающего страха. И потому эти сигналы – голоса кассандро-эмбрионов – должны быть услышаны на Земле, а смысл их взываний воспринят с пониманием.
Нет, это не сиюминутность, речь идет о вечности. Вечность вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода в род единственным способом – нравственным самосовершенствованием. Прогресс – лишь техническое приложение к идее. Ядерное оружие в руках фанатичного диктатора, готовящегося уничтожить, если потребуется, весь мир, – яркая тому иллюстрация.
Будут ли земляне озабочены сигналами кассандро-эмбрионов, воспримут ли их как предвестие генетического заката и, стало быть, заката человеческой цивилизации?
Боюсь предсказывать. Боюсь, что сомнения и терзания замкнутся в пределах каждого частного случая и каждый знак Кассандры вызовет соответственно свою развязку, свой финал…
Опасаюсь, что большинство женщин – и вряд ли мужья станут им препятствовать – постараются быстрее избавиться от такого не совсем обычного плода. Первое, что придет им на ум, – аборт как самый радикальный выход. И моральное оправдание тому, можно сказать, бесспорно – к чему, мол, плодить заведомо несчастных людей? Их и без того хватает на свете. И кто посмеет осудить их, прибегнувших к аборту?! Кто? Общество? История? Мораль? В истории общества – истоки зла, оседающего генетическим страхом, а мораль так часто уклончива перед циничным натиском действительности.
И вот тут, Ваше Святейшество, я считаю своим долгом уточнить свою позицию. Будучи убежденным сторонником католического запрета на аборт, я, тем не менее, не мог бы высказать категорического осуждения в адрес тех, кто, обнаружив тавро Кассандры, предпочтет прибегнуть к аборту, при том, кстати, что такой исход отвечал бы и стремлению самих кассандро-эмбрионов.
В результате мы сталкиваемся с чрезвычайно сложным противоречием. Радикальные действия (аборты) не решают, а скорей, напротив, усугубляют ключевые проблемы мирового сознания – остаются незатронутыми причины, порождающие эсхатологический комплекс у зародыша.
Вот череда невзгод, о которых не может не думать будущая мать:
– голод,
– трущобы,
– болезни и среди них СПИД,
– войны,
– экономические кризисы,
– социальные штормы,
– преступность,
– проституция,
– наркомания и наркомафия,
– межэтнические побоища,
– расизм,
– катастрофы экологические, энергетические,
– ядерные испытания,
– черные дыры,
и т. д. и т. д.
Все это рукотворно, все это порождено самими людьми. Масштабы бедствий людских приумножаются из поколения в поколение. И все мы в том соучаствуем. И вот, наконец, Провидение останавливает нас на краю бездны, дает о себе знать через тавро Кассандры…
Я еще раз заявляю, что мои космические исследования по выявлению сигналов кассандро-эмбрионов не преследуют никаких целей, кроме как помочь понять людям – дальше так жить нельзя, дальше грядет вырождение!
Только искоренение бед и пороков каждым человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить перспективу жизни. Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет…
Верю, что найдутся мужественные люди, которые не отступят, не кинутся немедленно избавляться от кассандро-эмбрионов; этим людям фатальные сигналы скажут о многом: об ответственности всех и каждого за образ жизни, за судьбу потомков, о том, что предстоит невиданное борение человека с самим собой… Такие люди будут добиваться лучшей жизни.
В это я верю.
А теперь очень коротко о себе.
Разумеется, никто меня не постригал в монахи, я самозваный, иначе говоря, условный космический монах, и имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем, были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж – американец, японец и я (до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории), завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покидать орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоразовый космический «челнок». Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое. И добился своего…
Вот уже пятый месяц, сто тридцать седьмой день, нахожусь я в полном одиночестве на орбите, проводя свои исследования. Запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад Советской империи, от чего больно содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне и об орбитальной станции, именовавшейся прежде «Восход?27». Боюсь, что нескоро вспомнят, боюсь, им не до меня, боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами, возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался, а возможно, будут делить и сам космос… Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество – выявлять сигналы кассандро-эмбрионов – до последнего часа своего…
На Земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш, воспитывался в детдоме. Подбросить младенца на крыльцо детдома мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду – это особая тема, особый рассказ.
Ваше Святейшество, еще раз преклоняю голову пред Вашим Светлым Ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через Вас к людям, – чтобы они знали истину.
Филофей, космический монах.
В миру – Андрей Крыльцов.
К тексту послания папе римскому, переданного с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакции газеты «Трибюн»:
«Уважаемый редактор!
В соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции «Трибюн» эксклюзивное право на публикацию послания.
Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя «Трибюн», решившись на такой шаг. Ценю Ваше мужество.
Был бы признателен, если бы редакция передавала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян.
С благодарностью
Филофей, космический монах, орбитальная станция РХ».
III
Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз. Он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами. Вода в океане становилась все горячей. Накаты волн обжигали. И, чем дальше, тем трудней и страшней было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца. Два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое – откуда-то приблудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим, трудно было понять. Он сильно перепугался. И стал кричать рядом плывущим китам: «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите?! Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца – страшно!»
Роберт Борк еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту, с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил в себя, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так, точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху! Жутко, жутко!..
И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. «Надо же!» – усмехнулся Футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате. Борк вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку. Но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу (хотелось верить – согласно расположению звезд), где по утрам Футуролог любил – по слухам, распространяемым Джесси комически-ужасным шепотком, – колдовать, а по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, сегодня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом, предстояло звонить разным лицам по разным вопросам – ухватывать ситуацию на лету.
Страсти по поводу кассандро-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Борк нисколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые, молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечества можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального «Римского клуба», стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг тавра Кассандры пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытые столкновения ради идеи.
А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихватившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами, с давлением, случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые, далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба.
Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов, была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи:
– Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертил перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся? Никак, Роберт, никак, хоть лопни! Этому нет объяснения. Но это неслыханно! Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир!
– Значит, мои иероглифы чего-то да стоят?! – ответил ей в тон Футуролог.
– Ну, в общем, доигрался, мой дорогой Футуролог, доигрался в магию… Теперь вот разбирайся.
Уже в машине – Джесси была за рулем – Борк развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил:
– Нет, это надо дома, в спокойной обстановке внимательно прочесть, – и сложил очки.
– А ты думал! – понимающе усмехнулась Джесси. – Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили! Представляешь: эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит! Что-то предполагает! И сообщает, что не хочет рождаться на свет! И об этом всерьез! Как можно?!
– Ну, не совсем, наверное, так, – озадаченно шевельнул плечами Борк. Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась не права. – Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим, открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета… Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось. А такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне. Да и то в фантастических представлениях. Хотя как сказать. Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим, если всерьез… А ты знаешь, я сейчас тебя рассмешу.
И Футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что роднило их с американцами. Однажды рано утром он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе человека, едущего вдоль реки на велосипеде и распевающего во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию, причем велосипедист был при галстуке, белом воротничке, в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре, точно он только что с оперной сцены. И никого не было в тот час на набережной, ни души, кто бы мог оценить его пение. Но велопевцу никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводный Рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы… И солнце летнее всходило. Борк в восхищении готов был бежать за чудаком-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в Рейн, плыть навстречу тому поющему велосипедисту, что катил себе по бесконечной набережной, помахать ему рукой, прокричать из воды что-нибудь веселое, хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете.
Они посмеялись чудаку, мчась по автобану.
«Теперь домой, домой. Теперь работать, работать, черт подери!» – говорил себе Борк в предвкушении того, что скоро снова будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двоякое чувство – облегчения, как всегда бывало по возвращении, при встрече с Джесси в аэропорту, и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, цену которым человек познает слишком поздно.
На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолета. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь сногсшибательной сенсации – вспыхнуть и угаснуть. Но чем больше Борк думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю. Как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслыханный приговор, по которому не только подсудимый, но и все, кто в тот момент находился на слушании дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен…
Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью, поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам «зиму и лето жизни» и знал все, что у нее на душе, и она знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда определяла их согласие и семейное счастье.
Он решил не отвлекать жену болтовней – сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было. Как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен; единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, – того, что от Бога, ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посильно реализовывать свои творческие возможности, насколько хватит «квоты» времени и здоровья. И Борк понимал: если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея. «Дома поговорим, – думал Роберт Борк. – Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем? – И хотел было уже поднять трубку, но передумал. – Не сейчас, надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом…»
– Включить радио? – отгадывая мысли мужа, спросила Джесси.
– Не стоит. Зачем мне галдящее радио? Мне с тобой и так хорошо.
– Охотно верю, очень охотно, – с мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину.
– А если то, о чем нам сообщили оттуда, – поднял глаза Борк, – действительно существует, то, конечно, никто не останется в стороне.
– Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно?
– Не знаю. Но если это так, может последовать обвальная реакция.
– Типун тебе на язык, Футуролог! – вполне серьезно обеспокоилась Джесси. – Это же страшно, когда массы!
– Если люди увидят себя в беспощадном свете, генетика из таинства биологии может превратиться в политику.
– Ну уж ты чересчур, Роберт, – попыталась Джесси как-то приглушить усиливавшуюся тревогу. – Но кто его знает, – стала она рассуждать, – вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнаеры, Артур и Элизабет, они тоже очень обеспокоены. А Джон наш, Кошут, звонил из Атланты, спектакль там ставит, тот вдруг припомнил, что-де на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества. Вот, говорит, и накаркал твой футуролог, извлек из ресурсов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны войну в самом себе, в человеке, проблему – стоит ли ему родиться. Помолчал бы, говорит, твой футуролог, может, и не было бы такого оборота. А то открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю – что оно? А он – оно и есть оно. Ему и названия нет.
– Ну да, узнаю, узнаю Кошута, – Борк иронически пожал плечами. – Хохмит, как всегда, сам в театре ставит трагедии, мир переворачивает вверх дном: Шекспир, Эсхил и прочее, а я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош мой лысый дружок…