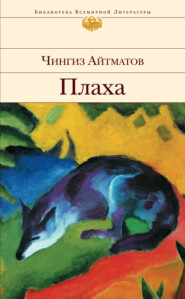скачать книгу бесплатно
Плаха
Чингиз Торекулович Айтматов
Главный герой романа Авдий Каллистратов, бывший семинарист, выезжает по заданию молодежной редакции в Моюнкумскую саванну за материалом про анашистов, собирающих коноплю. Им движет не только задание, но и мысль спасти павших и снова сделать из них людей. Наивный Авдий воспринимает мир только через «призму добра» и, сам того не замечая, иногда становится орудием в руках зла…
Чингиз Айтматов
Плаха
Часть первая
I
Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась: заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.
Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыккульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко, что тут разыгралось: в метельной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всего на свете стылой тишине.
И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгю, задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал – полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного – и случится нечто страшное, как тогда – при землетрясении…
B какой-то критический момент так и получилось: с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатились вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломились, подобно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплого ручья.
Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, – ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.
В горах иное дело – здесь всегда можно ускакать, всегда найдется, где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки, и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.
На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк – Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар – Камнедробитель, – прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.
И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу – то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что ненародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.
Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось, его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность – потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.
В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки – отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.
Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и неспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.
Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидались вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.
Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Первое – отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза – редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару – Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.
Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не пристали – слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.
Всему судия – время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.
В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, – так вот, когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам – по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, – земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики, то есть звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, – одно звено жестокого бытия – выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование – в беге-борьбе, – те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спасаться бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей, – там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным…
Люди, люди – человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахающими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону – поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человекобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по равнинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки – и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном…
Синеглазая волчица Акбара была еще полуяркой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большим загонным облавам. Поначалу они не поспевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем превзошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло, как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе…
Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод: многие матки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел раза два наново после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много – отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов, – туда волкам добраться нелегко, да и погоня по барханам за сайгаками – безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно: сурки во множестве сновали по всей степи, наверстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел – поскольку всему ведь свой час, а зимой сурков не добудешь – их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча – великая охота на сайгаков – приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах…
II
К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало – дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели, не смолкая, всю ночь, затурчали с новой силой; уже высовывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма – осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрассветной саванны…
И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, – надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, – оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне: мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой, быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, – всего лишь небольшой остров на Азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее наседают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей – на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро…
Все эти человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться моюнкумских животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшейся на жарких полупустынных равнинах и всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засухоустойчивого тамариска, эдакой полутравой, полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрельчатым чием, этой красой полупустынь, и при свете луны, и при свете солнца мерцающим наподобие золотого призрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто – ростом хотя бы с собаку – ни поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.
В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары – Акбары и Ташчайнара, а к тому времени – что самое важное в жизни животных – они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувысохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой норов, хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.
Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой.
В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падям и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и наведывалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьянеть в больших травах, поваляться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть.
В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата – трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.
За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им своевольничать – она строго следила, чтобы никто не смел ступать на тропу впереди нее.
Места шли вначале песчаные – в зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз – засветло. Травы в этом году были высоки – почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены – по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, – но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.
А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо – человек. Некий субъект почти голый – в одних плавках и кедах на босу ногу, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове – бегал по тем самым травам. Бегал он странно – выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, – такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное – вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, – этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.
– Смотри-ка, что это? – приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. – Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы дурашливые мои зверики!
Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменила свое намерение. Она перескочила через человека, голого и беззащитного, которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли…
И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать… И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания…
То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком… Но кто мог знать, что предвещала эта встреча…
День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь – величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим в одном направлении по кругу, как бы символизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению (слух у них на втором месте) эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.
Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов тамариска и золотистой поросли чия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар полулежал в своей любимой позе – скрестив лапы впереди, приподняв голову, он выделялся среди всех мощным загривком и мосластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая грудь и впалое брюхо с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе не раздражали родителей. И волк и волчица взирали на них с явным попустительством: пусть, мол, резвятся себе…
А коршуны все летали в поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления. Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что сайгакам несть числа – их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынном ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния.
Одно из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственно были видны сквозь призрачно освещенный травостой чия их быстро скользящие бока и спины, приспущенные головы самцов с небольшими рожками. Они всегда движутся с опущенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их, антилоп, множество и в этом уже их сила…
Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принюхивались к воздуху и, не понимая еще, в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с проходившим стадом и погнать его, яростно, неудержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем беге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реальной, но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать погоню – хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки, они не трогались с места. На это имелись свои причины – они были сыты в тот день и устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками было бы смерти подобно. Но главное – для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться – раз и навсегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недостижимой цели – больше они бы не пытались дерзать, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав – вот когда набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час!
Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат, пересела на другое место, все так же провожая цепким взором движение антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чиях, как рыбы в нересте, плывущие в верховья по реке все в одну сторону и все неотличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь растормошить угрюмца Ташчайнара.
А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню, в один прекрасный день сплошь белую на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег – сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чиях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной – волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершенно четко прочла сама и свои матерые следы, и следы волчат, уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности, что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки – могучие соцветия с когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд, – от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильней промнутся в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он – сила, он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая настигнутая сайга окрасит белый снег саванны током алой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови – так повелено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судия, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. (Лишь человеку дан иной удел: хлеб добывать в труде и мясо взращивать трудом – творить для самого себя природу.)
А те следы по первоснегу Моюнкумов – соцветия волчьи, большие и чуть поменьше, потянутся рядком в тумане понизовом и остановятся в подветренной лощине среди кустов – здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть…
Но вот час вожделенный приближается – Акбара подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не всполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, – и грянет звездный час волка! Акбара так живо представила себе ту первую облаву – урок молодняку, что взвизгнула невольно и едва удержалась на месте.
Ах как пойдет погоня по саванне первозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся стремглав, как от пожара, и белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназначение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель – загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыскам своим. Да, то будет неукротимый бег! И в устремленности грядущей не столько сама добыча была желанна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне подобно птицам быстрокрылым… В этом смысл ее волчьей жизни…
То были мечты волчицы, внушенные ее природой, кто знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли в сердце, и сниться часто и безысходно… И будет вой волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так: вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья… И ведь все мечты так – и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла…
III
Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни, тот снег забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекати-полю и где наконец установилась такая тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели напиться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость… А перед этим над саванной прогоготали гусей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к исконным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен… Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону…
А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена: раз Богом не определено, не переступишь, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так, у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как Большеголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора…
А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная отрада, и закрутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них.
К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе – пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот Большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а вот Любимица – глядит в синие глаза волчицы преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства – Ташчайнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними еще верховный царь – царь Голод, царь утоления плоти.
Акбара встала с места и двинулась трусцой, ждать дальше было некогда. И все последовали за ней.
Все начиналось примерно так, как грезилось волчице, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило – самая пора для групповых облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промышлять сообща.
Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытание, на первую для них великую охоту на сайгаков.
Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронутом снегу цветы следов звериных как знаки силы и сплоченной воли, где пригибаясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи…
Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь в дали синими глазами и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легком виднелись стада сайгаков – то были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков, стало быть, благоприятным и для волков.
Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чием, чуть подольше: требовалось сделать выбор наверняка – определить по ветру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту.
И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на громыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос так, что и Ташчайнар не удержался и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятились от страха: на небе что-то происходило, там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.
Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков…
А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их погибель уже спланирована, и скоординирована, и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах…
Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча – сайгаки – нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервозная – «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки; требование момента – хоть из-под земли, но дать план мясосдачи, хватит тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?
«План будет непременно, – отвечало облуправление, – в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем…»
А степные волки тем часом, ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда Акбариным волкам все было видно как на ладони. Бессчетное стадо степных антилоп – все как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, – паслось, пока не ведая опасности, в широкой тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву, но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного момента – только тогда можно было рассчитывать на успех: сайгаки в один миг берут такой разбег, который немыслим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент.
И тут поистине, точно гром с неба, снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро – не одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было: прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и, вовлекая все новые и новые встречные стада в это моюнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на парнокопытных обитателей никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении.
Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, – неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном им направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего потока громадного, набегающего, точно туча, поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а, наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства, невероятного и немыслимого, – если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого, чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче, Моюнкумская саванна не видывала даже при больших степных пожарах.
Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным – она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза: вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, вот Большеголовый, вот Быстроногий, и едва поспевает, все больше слабея, Любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег – гроза Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось синеглазой волчице, а теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щепки в реке… Первой сгинула Любимица. Упала под ноги стада, только визг раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт…
А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, сообщались по рации, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильней, чем сильней они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не «Ну, погоди!».
Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный.
И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее, расстрельщики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы – бросали трофеи один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни, не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскачать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, – в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.
А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалипсических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам… А отстрельщики-автоматчики беззвучно палили с колена, с бортов «уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и беззвучно валились под прошивающими их пулями, обливаясь кровью… И в этом апокалипсическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных от ветра наглазниках, с иссиня-багровым, исхлестанным ветром лицом, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой, и если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по рации: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем…
И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать, она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять – скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстреленный на бегу ее Большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, предсмертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело Большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира – голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой… Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде…
Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава и чем она обернулась для Моюнкумской саванны, но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется…
Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, когда все – и гонимые и гонители – выбились из сил и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновится; предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских степей находится, по предварительному вертолетно-воздушному обследованию, еще много непуганых сайгачьих стад, официально именуемых невскрытыми резервами края. А поскольку существовали невскрытые резервы, из этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование моюнкумского «похода». Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства – это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди – вольные или невольные исполнители этого злодеяния.
А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили впотьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно – вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, как обожженные, каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы.
Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент, прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили, прихрамывая и прискакивая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы… Чтобы перетруженные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди…
Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой, шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным – полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных в облаве сайгаков удалось собрать засветло. Наутро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу под брезентами из зоны Моюнкумов.
В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычной в этих безлюдных местах, долго еще нагонял страху на волков: оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова вглядывались напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего, – что делают люди на месте их старого логова, почему они там остановились и долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина. То был, кстати, «МАЗ» – вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами столь мощными, что им, казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек, руки его были связаны, точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над кузовом виднелась луна, он смотрел на большую луну, как в пустоту, на его бледном лице было написано страдание.
Теперь участь его зависела от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на моюнкумской облаве…
Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу сынтегрировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других, – словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы…
Прежде всего это были люди бездомные, перекати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий – упоминался такой в Библии в Третьей Книге Царств, – сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове «МАЗа» со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле.
Все они, за исключением Авдия, были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже, чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха – ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще бо?льшую ненависть Обера.
Обер – так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжалования был старшиной дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало – Обер он и есть обер в полном смысле этого слова.
Вторым лицом в этой хунте – а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, – единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафару, пусть мы будем сафарой!» – но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», – так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью – Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.
Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцепы и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива – кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, – ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них – местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей Узюкбай, или попросту – Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться… Оберу-Кандалову нельзя было отказать – он действительно обладал социально ориентированным нюхом…
Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне…
И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное – благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий – а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами богословами юношей, – тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.
Если бы да кабы… Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед… Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд – отправиться за компанию подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных… Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел – полстакана залпом, потом еще и еще полстакана, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить… и тогда дать по мозгам… Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжко будет потом…
И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда…
Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости: с одной стороны – неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны – в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуреваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему, и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.
У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навыкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром…
Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Моюнкумской саванне…
И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острей всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: «И среди тысячной толпы – ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок». И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и, если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды…
Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен…» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не знай он о ее существовании, не люби ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутихающей боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет… Но, не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность: ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острей, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благость слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке…
– Слава Всевышнему! – прошептал он, глядя на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика Божья милость, когда он вселяет в сердце любовь…»
И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепы. Кажется, они уже успели поддать – резко шибануло в нос водкой.