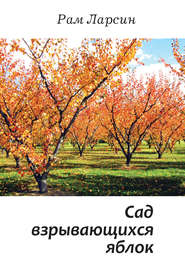скачать книгу бесплатно
Сад взрывающихся яблок (сборник)
Рам Ларсин
В своей новой книге израильский прозаик Рам Ларсин объединил две повести. Первая – по которой названа книга – о молодых израильтянах. Они взрослеют, любят, воюют… Они живут в прекрасной стране, но только яблоко порой может взорваться в руках… Вторая повесть связана со страной, которую автор покинул много лет назад, но не утратил с ней духовной и творческой связи. Превосходная проза, занимательный сюжет, жизнь героев, в которой всегда есть место и приключениям и мистическим событиям не оставит равнодушным читателя.
Рам Ларсин
Сад взрывающихся яблок
Сборник
© Рам Ларсин, 2016
* * *
Сад взрывающихся яблок
Дождь, широкий и мощный, полгода обходивший этот иссушенный край, внезапно хлынул с неба, и когда за тучами погас последний луч солнца, лицо Нины продолжало светиться каким-то таинственным сиянием – так по ночам, прикасаясь к ее телу, я думал, что оно излучает собственный теплый свет.
– Кончилось это страшное лето! – В ее глазах были слезы или капли, брызжущие через открытое окно. – Какое счастье!
И я не решился сказать ей о письме, которое получил сегодня, не мог омрачить этот ее радостный порыв, потому что она была моим солнцем, и она была моим дождем…
Я вспомнил это темной глухой ночью, ворочаясь без сна на жесткой казарменной койке. Нина побледнела, узнав, наконец, о повестке в армию. Должно быть, в мыслях ее возник образ моего отца, погибшего в стычке с чеченцами: для Нины они ничем не отличались от тех, что подстерегали меня здесь.
Ее страх невольно передался мне, я накричал на нее, а потом извинялся долго и основательно – благо было чем. И сейчас, засыпая, я думал о ее губах, груди, бедрах и о том, как странно говорят о ночи – глухая…
Отряд подняли с первыми всполохами зари, но Шломо, тощий йеменец с кипой на кудрявой голове уже ждал нас, держа закопченный кофейник над маленьким зыбким костром. Так исполнял он свою ежедневную мицву перед людьми и Богом, который, наверно, воздаст ему за этот ароматный глоток кофе холодным утром.
Появился самал, черный, полуголый, казавшийся в тусклом свете фонаря сбитым из простых геометрических фигур – круглая голова, треугольный нос, квадратные плечи. Окинув всех снулым еще взглядом, он произнес как заклинание:
– Авиноам!
– Мефакед? – вышел вперед рабат, грузный, приземистый и всегда хитро улыбающийся.
– Я вижу, без меня к нам новенького определили.
– Вчера прибыл. Парень исправный. Не то, что некоторые. Верно, Иоси?
– Иоси, Иосале! – повторяли на разные лады солдаты.
Я уже знал, что у нас, как во всякой уважающей себя части, есть мишень для грубого мужского юмора – рыжий малый с жалкой сморщенной физиономией еврея из штетла.
– Отставить это! – прервал общее веселье самал. Изящным жестом, какой трудно было ожидать от его тяжелой руки, он принял чашечку, пригубил и застонал, разнежась. Это, должно быть, придало ему силу воли взглянуть на меня:
– Имя?
Моя скрежещущая ашкеназийская фамилия произвела на него сильное впечатление. Он усмехнулся:
– Рабат, ну как ты будешь звать нового бойца?
Еле вырвав из себя первые звуки, Авиноам к концу стал задыхаться, чем привел начальство в отличное расположение духа. Глаза его снова обратились ко мне:
– Хуялта?
На это раз сконфузился я. Стоящий рядом Иоси подсказал:
– От ивритского “хаял”, в смысле полностью ли ты экипирован.
– Да, мефакед!
– Хорошо, Жреб-кор-ски, – тоже не без труда произнес самал, вызвав сочувственный смех подчиненных.
– Молчать! Вы лучше представьте себе, как звучат для русского ваши собственные фамилии: Эльбас, Молхо, Кадури, – командир исчез за дверью, очевидно, чтобы одеться, но, и невидимый, продолжал журить своих солдат, – Зилха, Элиа, Марьюма! Жалкая деревенщина, вы не способны понять культурного человека, как это, има шело – Жебер – Чебер, – он запнулся и вдруг мы услышали его громоподобный хохот, охотно поддержанный с этой стороны. Наконец, самал предстал перед нами, и я не узнал его. Затянутый под самую селезенку видавшим виды ремнем, холодно блестя безволосым черепом и вбитой, казалось, в мощную грудь планкой боевых наград, он был готов к любым передрягам, и голос его не предвещал ничего хорошего:
– Через полчаса выступаем. Сейчас – в столовую, пятнадцать минут на завтрак. Напоминаю: из строя не выходить.
– Можно, я пойду с тобой? – робко попросил Иоси. – Ребята все время пристают.
– А ты бы послал их подальше!
Тот махнул рукой:
– Не ведают, что творят, – и добавил на идиш. – Капойре!
Наш путь лежал мимо густых рядов фруктовых деревьев, меж которых сновали люди в белых куфиях. Следя за их ловкими движениями, мой новый товарищ сообщил:
– Граница проходит дальше, за холмами, но палестинцам разрешается обрабатывать их бывшие земли.
Я заметил:
– Чисто израильский парадокс!
Крепкий смуглый араб, несший плетеную корзину с яблоками, должно быть, понял эти слова и повел в нашу сторону острый неприязненный взгляд.
– Исмаил! – позвали его из глубины сада, и он исчез.
Тут из-за низких облаков вырвалось солнце, ярко осветив иосины красноватые волосы и почти такого же цвета плоды среди мягкой сияющей зелени. Вчера, в первый день моей службы было пасмурно, и я не мог оценить всю эту красоту.
– Чудесно, а? – улыбнулся Иоси.
Я сдержанно кивнул. Мне хотелось просто молчать и впитывать в себя пахнущий цветами воздух и давно забытую тишину.
Но Иоси был говорун:
– Знаешь, как-то в детстве родители повели меня на кукольный спектакль Образцова о первых людях. Помню, когда Ева протянула Адаму яблоко (некоторые считают, что это был апельсин), оно упало, лопнуло и из него посыпалась какая-то труха.
Моему терпению пришел конец.
– Послушай, ты никогда не делаешь пауз? Ведь это грубое нарушение драматургических правил!
Он сжался весь, увял.
– Извини… уже кончаю, – и продолжал несчастным голосом, – я, семилетний мальчик, был так разочарован, что и сейчас, когда вижу на деревьях апельсины или яблоки, мне представляется, что они бутафорские, потому что слишком красивы.
Наконец иосин крохотный рот перестал судорожно, как в мультфильме, сокращаться. Мы молча шли, чужие и замкнутые. Мне вдруг стало неловко, что я отношусь к нему не лучше, чем вся наша братия. Я-то сознавал, что передо мной необычная, сложная натура, и вместе нам будет легче пройти однообразную службу, но его жалкость, неуважение к самому себе отталкивали. И все же я сказал, тронув его поникшее плечо:
– Что ж, давай проверим. Может быть, это действительно камуфляж.
Я потянулся к спелому, нежно округлому, чуть ли не по-женски манящему плоду.
– Жеребчинский! – послышался сзади бдительный окрик самала, и хотя он, наконец, правильно выговорил мою фамилию, солдатам это по-прежнему показалось смешным, и Иоси тоже. Внезапно яблоко, облюбованное мной, взорвалось так театрально, невсамделишно, как, наверное, на иосином кукольном представлении. Но жгучая боль, пронзившая меня, и кровь на лбу и груди были настоящие. Алые капли соединялись в быструю упругую струю, которую я не мог остановить. В помутневшем сознании билась острая мысль: это она, это сама жизнь оставляет меня…
Вокруг были выстрелы, крики, дым. Падая, я увидел Иоси – он все еще продолжал смеяться, но как-то странно: все лицо его дергалось, губы корчились, а пальцы беспомощно хватали воздух. Потом он рухнул рядом со мной.
– Ты ранен? – пытался спросить я, он прошептал что-то, и я понял, что это всепрощающее… Капойре!
– Нет! – беззвучно, всем своим гибнувшим существом закричал я, и с тех пор эхо этого слова не умолкало во мне.
– Нет! – мое жестокое страдание не прощало ничего и никому: ни своей несчастной галутской судьбе, наделившей меня вечным, вездесущим врагом, ни рыжему Иоси, из-за которого, так думалось мне, я был ранен, ни даже Нине, единственно родному человеку на свете – это она потянула меня сюда, в страну взрывающихся яблок…
Но меньше всего заслуживали прощения врачи в госпитале, упорно трудившиеся над тем, чтобы извлечь из моей головы маленький осколок гранаты – таков был их диагноз. Не добившись ничего на первой операции, они снова принялись за мой несчастный мозг, и он содрогался от каждого прикосновения иглы или скальпеля. Боже мой, Нина предупреждала их, что у меня врожденная нечувствительность к наркозу, а они объясняли все моим слишком богатым воображением. Но в тот, второй раз, на вершине моей муки было мгновение, когда я понял, что умру сейчас и здесь, на операционном столе. И тогда – так, наверное, бывает перед смертью – мне открылась истина: хирурги… ох как больно… ищут кусочек металла… а на самом деле… господи, где взять силы… там просто… косточка… хватит, прекратите!.. от разорвавшегося яблока…
Они, должно быть, тоже признали свою ошибку, потому что внезапно оставили меня в покое.
И избыток наркоза в моем теле оградил меня от действительности…
Ах, этот сладкий покой, не нарушаемый никакими звуками, болью, ежедневными волнениями – он как тихая глубокая река нес меня куда-то, а вдали, словно на другом берегу, появлялись смутные образы, я узнал потом, что приходили друзья по студии и солдаты из части, а дальше, где течение бурлило, пенилось, мне чудилось… нет, не может быть… и все же… это был он, отец, который погиб от чеченской пули на переправе через горную речку, «Папа!» – замирая, крикнул я, но сестры разбудили меня к завтраку, я быстро проглотил еду и снова нырнул под одеяло, так в детстве мне удавалось досмотреть ускользнувший сон, и сейчас я так же лежал неподвижно, укрывшись с головой, но все было напрасно, как вдруг я опять увидел отца вместе с нашей маленькой семьей, мама играла ноктюрн Шопена до диез минор, а отец, не зная ни одной ноты, преображался и забывал обо всем, и оба они вздрагивали, когда клавиша западала, и отец обещал позвать настройщика, но не успел, потому что его призвали в армию, а мама ждала его и каждый вечер играла этот ноктюрн, пам-пам-пам с западающей клавишей, и дедушка, живший вместе с нами, требовал починить инструмент, а мама говорила, что это должен сделать отец, и дед тайком позвал кого-то, после чего фортепиано звучало прекрасно, но мама никогда больше не подходила к нему…
– Марк, хватит спать! – тормошила меня Нина. – Скоро врачебный обход.
Меня окружил ареопаг врачей, которые осматривали рану, изучали снимки, констатируя, что мое здоровье улучшается и что теперь нужно довериться матушке природе – ходить, дышать свежим воздухом и снова ходить. И я ходил под бдительным присмотром Нины, но быстро уставал и садился на скамью.
Стояла прекрасная весенняя погода, и все, кто мог, спешили вырваться из серых унылых стен на волю, под теплые лучи солнца. Вот бледная девушка, прислонясь к одинокой, как она сама, сосне, читает старую пожелтевшую книгу и украдкой вытирает влажные глаза. Поодаль за столиком несколько крепких мужчин играют в шешбеш, негромко ругаясь по-арабски. А сбоку, усевшись в удобных шезлонгах, два высоколобых старика решают проблемы, которые не успели решить за долгую жизнь.
– Трудно представить, – слышу я одного из них, – что спонтанные бездумные силы эволюции могли создать такое совершенное существо, как человек, – он понизил голос, когда мимо проходила Нина, – особенно женщину. Что вы думаете об этом, профессор?
– Что ж, насчет красоты должен согласиться с вами, хотя это вещь субъективная. Например, крокодил, умея говорить, сказал бы то же самое о своих самках. Но по поводу совершенства буду спорить. Ибо что это такое? Максимальное приспособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям природы с единственной целью – продолжение рода. С этой точки зрения тот же крокодилес даст фору любому homo сапиенс, так как живет не изменяясь сто миллионов лет. То есть он уже с самого начала был приспособлен ко всем будущим изменениям природы. Это ли не самое похвальное, что можно сказать о животном?
– Господи, но ведь ему полностью чуждо главное – стремление к творчеству!
– А зачем оно крокодилу? Ему и так хорошо – все сто лет, которые он живет. Между тем для Бетховена музыка была ежедневным изнурительным способом выжить!
Его собеседник задумался, пораженный. Меня тоже удивила эта мысль, хотя приходилось напрягать все свое знание иврита, чтобы следить за рассуждениями профессора.
Но Нину волновало другое. Неподалеку, у цветочной клумбы, увядшей за зиму, расположились трое – женщина, мужчина с перевязанным плечом и девочка, очевидно, их дочь, беленькая, с большим бантом на кудрявой голове, словно из мультфильма.
– Вот выздоровеешь, – нинин голос дрогнул, – и мы тоже заведем такого ангелочка, а?
Внезапно девочка заплакала, мать, успокаивая ее, вынула из сумки и протянула ей что-то круглое, красное. От волнения я не сразу вспомнил, как это называется. Мне стало нехорошо. Весь дрожа, я кинулся к ним и выхватил этот страшный гибельный плод. Тут силы оставили меня, глаза застлал туман. На мгновение мне показалось, что я стою среди широкого яблоневого сада, зная, что сейчас все взорвется к чертовой матери…
– Марк! – донесся ко мне спасительный крик.
Туман стал расходиться, пальцы мои, державшие яблоко, вдруг ощутили, какое оно гладкое, нежное – и, казалось, совершенно без моей воли положили его перед испуганной девочкой.
– Прости, маленькая! – пробормотал я.
Нина, тоже извинившись перед всеми, потянула меня в палату, уложила в постель и села рядом.
Мы молчали.
– Скажи, – наконец, спросил я отчаянии, – что со мной?
А она все гладила мои холодные руки. Потом опомнилась:
– У нас гости.
Я увидел на пороге странного человека. Поколебавшись, он стал медленно приближаться – рыжий, низкорослый увалень, чья физиономия напоминала окорок, с которого резали мясо для шуармы.
– Марк!
– Иоси! – ахнул я.
Мы обнялись. Он несмело прикоснулся к моей голове, сжал плечо, щеки его были влажны, мои тоже.
– Меня только недавно перевели в Тель Ашомер для пластики лица, – сказал Иоси. – А сначала поместили в иерусалимскую Адасу лечить глаза. Я почти ничего не видел. Там и нашли меня ребята – самал и Шломо, рассказали, что были у тебя, но ты совсем плох, никого не узнаешь.
Нина, воспользовавшись паузой, проговорила:
– Мне нужно на работу.
Бесстрашно глянув на гостя, кивнула ему:
– Марк рассказывал о вас. Выздоравливайте! – и мне: – Я приду вечером.
Иоси печально смотрел ей вслед:
– Красивая у тебя жена. И чуткая: очень старалась не замечать мое уродство. Обычно я вызываю у женщин суеверный страх.
Мне не хотелось продолжать эту тему.
– Ничего, сейчас медицина делает чудеса, – обнадежил я его, удивляясь самому себе. – Будешь как новенький.
– Бэ эзрат ашем!
– Так-так… Я всегда подозревал, что ты тайно верующий. А кипа?
– Я не ношу ее. Признаюсь тебе одному: стыдно. Кипа, цицит стали чуть ли не символом обмана и лицемерия.
– И как это вяжется с твоим “капойре”?