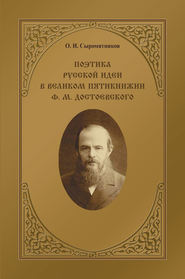скачать книгу бесплатно
Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского
Олег Иванович Сыромятников
Книга обобщает наблюдения автора над связями русской идеи с творчеством Ф. М. Достоевского. Предметом исследования является последнее двадцатипятилетие жизни писателя, характеризующееся идейной ясностью и непротиворечивостью, ставшими следствием религиозных убеждений Достоевского. Автор показывает, что осмысление бытия Божия в мире, причины отпадения и возвращения к Нему человека составляют содержание главной идеи жизни и творчества Достоевского. В неё входит и деятельный сознательный патриотизм, заключающийся в стремлении понять и выразить в слове замысел Бога о России – русскую идею. Любовь к Богу и России составляют основу мировоззрения Достоевского и определяют идейное содержание, образную систему и особенности композиции пяти романов, созданных им в период 1865–1880 гг. и получивших название «великого пятикнижия»: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1668), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Изучению закономерностей и особенностей воплощения русской идеи в образности великого пятикнижия и посвящена эта книга.
Олег Сыромятников
Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского
© О. И. Сыромятников, 2014
© Издательство «Маматов», 2014
Имя – Достоевский
Имя Ф. М. Достоевского является одним из наиболее ярких имён России. Его книги переведены на все «читающие» языки мира, по ним снимали и продолжают снимать фильмы, ставить спектакли. Множество этих попыток говорит об обширности дарования писателя, но в ещё большей степени – о том, что до сих пор не разгадана какая-то главная загадка его личности и творчества.
Действительно, в слове Достоевского есть тайна, и когда человек встречается с ней, его жизнь изменяется. Узнать Достоевского и остаться прежним – невозможно. Его слово становится источником величайшего счастья и глубочайших страданий. Это происходит потому, что оно, проникая сквозь чувства и разум, открывает душу человека Богу. Для тех, кто уже искал к Нему путь, это открытие становится причиной радости и счастья. Но иных оно страшит, и тогда они предпочитают оставаться в мире собственных чувств, желаний и фантазий. Эти люди берегут свой мир, как музей тончайшего стекла, который легко может разрушить чужое неосторожное вторжение. Не зная, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), что Он – источник всякого блага, они боятся и не доверяют Ему. Между тем Христос говорит: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16:25). Священное Писание называет таких людей «душевными, не имеющими духа» (Иуд, 19).
В книге О. И. Сыромятникова заметна открытость Достоевскому, готовность к диалогу с ним. Он ставит перед собой сложнейшую задачу: проследить связи доминантных идей общественного сознания с идеями, составляющими основу мировоззрения писателя, и то, как эти идеи воплощаются в образность художественного произведения. Заметим, что само понятие общественного сознания сегодня неоправданно представляется неким анахронизмом. А между тем без него невозможно представить полную и достоверную картину наличествующего бытия, так как оно описывает всю совокупность нематериальных отношений в обществе. Его системообразующими центрами являются религия, идеология, мораль, политика и искусство.
В последней трети XIX века ускоряющееся разрушение религиозного ядра общественного сознания, начатое реформами Петра I, привело к деструкции общественной морали, в результате чего энергия общественного сознания перераспределилась в направлении идеологии и политики. Это выразилось в предельном обострении идейно-эстетического конфликта между представителями различных идеологических позиций: западников – славянофилов – консерваторов. В середине XX века Н. А. Бердяев скажет, что объективных причин для этого конфликта не было, потому что все его стороны были движимыми одним – любовью к России. Видя пороки окружающей действительности, они искали их причины в разном и по-разному пытались бороться с ними. При этом все они мечтали о счастливом будущем России и прилагали многие усилия, чтобы приблизить его.
Автор показывает огромный вклад, сделанный Достоевским в осмысление русской идеи и легитимизацию её в общественном сознании России. При этом сам писатель никогда не ставил себе это в заслугу, считая естественным и нормальным для русского человека, русского дворянина, русского интеллигента, быть патриотом – любить и защищать свою Родину. Право первенства в этом Достоевский всегда отдавал А. С. Пушкину, называя его «первым» и «главным» славянофилом России. И всё же именно Достоевский ввёл понятие «русская идея» в общественный обиход и посвятил его осмыслению значительную часть своего творчества. Об этом говорит, прежде всего, его знаменитый «Дневник писателя», все выпуски которого представляют собой предельно напряжённое, обострённо-внимательное и бесстрашно-глубокое исследование содержания русской идеи.
Внимательным взором Достоевский стремится увидеть в разнообразных явлениях российской жизни и событиях внешней политики промыслительное действие Божественной воли. Писатель с тревогой следит за разрушением религиозных и нравственных основ российской жизни, бессилием Церкви, формализацией и бюрократизацией образования, всё ускоряющихся на фоне активного вторжения в общественное сознание чуждых русскому национальному духу идей атеизма, эгоизма и своеволия.
Горячее желание увидеть путь, завещанный России самим Богом, было основой всех гражданских и творческих устремлений Достоевского. В отличие от многих современников, писатель всегда искал ответ на вопрос о судьбе России с позиции православного человека, которым он был и оставался до последних мгновений своей жизни. Внимательный анализ биографии Достоевского и его сочинений показывает, что он, как и всякий живой человек, испытывал на своём пути многие искушения и даже падения. Но всегда перед его духовным взором предстояла богочеловеческая личность Христа, и Достоевский шёл к ней – оступаясь, падая, но ни на мгновенье не выпуская из виду, пока наконец не предстал перед Спасителем. И встреча эта, по свидетельству очевидцев последних минут жизни писателя, была радостной, что успел запечатлеть на своей известной картине И. Н. Крамской[1 - И. Н. Крамской. Ф. М. Достоевский на смертном одре 29 января 1881 года. Бумага, соус, итальянский карандаш.].
Бог и Россия – две главные темы, определяющие идейное содержание, образную систему и особенности композиции творчества Достоевского периода 1865–1881 гг. Конечно, эти темы в той или иной степени были в его творчестве и прежде. Но само это творчество было другим. Писатель долго и трудно искал форму для выражения своих идей, пока наконец не появился первый роман великого пятикнижия, «Преступление и наказание». В следующем романе, «Идиоте», Достоевский продолжил поиски формы в другом направлении, но скоро убедился в их бесперспективности. Писатель возвращается к форме, найденной в «Преступлении…», и начинает доводить её до совершенства, постоянно раздвигая её рамки и стремясь выразить свои заветные идеи во всей полноте. Появляются «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». И всегда в центре повествования – герой, стремящийся к счастью. Не к сиюминутному наслаждению или удовольствию от удовлетворения своих желаний и потребностей, а к подлинному счастью. Это не «маленький человек», введённый в русскую литературу Пушкиным и Гоголем. Главные герои великих романов Достоевского принадлежат к интеллигенции, они обладают многими достоинствами и могучими желаниями. А потому «обычное» счастье в сытости и комфорте их не устраивает. Им необходимо всеобщее, всечеловеческое счастье, и они упорно ищут к нему путь. Однако находят его лишь те, кто смог сломить свою гордыню, убить в себе «наполеона» и исполнить заповедь Спасителя: «Возлюби Господа Бога твоего» и «ближнего твоего, как себя самого» (Мф. 22:37–39). Отказ от утверждения собственного «я» и сознательное и свободное синергийное соединение с волей Бога: «Да будет воля Твоя!» – становится единственным путём человека к спасению от смерти.
Но борьба со злом в самом себе трудна тем более, чем больше это зло. Живой человек не может не ошибаться, и потому все главные герои Достоевского совершают грехопадение, нарушают закон, данный Богом. Писатель тщательно исследует причины этих преступлений и делает это вовсе не потому, что ему нравится наблюдать их самому и мучить их описаниями читателя. Сам пройдя сложным и трудным путём, Достоевский стремится предупредить современников о тех препятствиях и испытаниях, которые встретятся на нём. Поэтому он в мельчайших подробностях показывает причины и следствия греха, говоря: вот что будет, если ты нарушить тот или другой закон духовной жизни. И, подобно тому, как закон всемирного тяготения не придуман Исааком Ньютоном, так и законы духовного мира не придуманы Достоевским и даже не открыты им. Они открыты самим Спасителем, а Его, по словам преподобного Иустина (Поповича), «бесстрашный православный апостол, пророк» лишь напоминает о них людям.
Достоевский особо указывает на один из важнейших законов духовной жизни общества, согласно которому грех, преступление одного человека имеет значение для всех людей. И чем более велик этот человек, тем более тяжкое злодеяние он способен совершить, а потому и более тяжелые последствия ложатся на близких, на народ, на весь мир. Об этом скажет герой последнего романа Достоевского, старец Зосима: «Единичного греха нет, каждый за всех виноват». Священное Писание говорит об этом так: «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» (Прит. 11:11). Поясняя эту мысль, святой Василий Великий писал: «И за немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие». Об этом же говорил и святитель Киприан Московский: «Не знаете ли, как грех людской на князей, а княжеский грех на людей нападает?». Впервые в русской литературе об этом законе сказал Пушкин в «Борисе Годунове» (1825). Юный Достоевский настолько был поражён этим открытием, что собственный первый драматический опыт озаглавил так же: «Борис Годунов». Думается, он хотел не «переписать» или «продолжить» Пушкина, а лишь получше уяснить для самого себя один из величайших законов творения. Именно поэтому Достоевский впоследствии уничтожил своего «Годунова».
А. С. Пушкиным и Ф. М. Достоевским были вновь открыты людям и «переведены» на современный им русский литературный язык многие законы мироздания, о которых говорит Священное Писание. Однако между этими двумя гениями русской литературы стоит фигура Н. В. Гоголя. Всегда однозначно высоко оценивая его художественное дарование, Достоевский, подобно многим современникам, настороженно-недоверчиво относился к последним сочинениям своего великого предшественника, прежде всего – к «Выбранным местам из переписки с друзьями» (1847). Морализаторский тон «Переписки» давал основание читателям укорять её автора в неискренности. Однако настоящей неискренности, то есть обмана или лицемерия, здесь всё же не было. Но была резкая фальшивая нота, услышанная многими. Вероятно, её причиной стало то, что стремительно вышедшая на духовное поприще мысль Гоголя не смогла найти себе нужную форму. Именно явное несоответствие открыто религиозного содержания последних сочинений автора «Ревизора» их художественной форме вызвало упрёки в неискренности и в желании поучать окружающих.
На наш взгляд, форма и содержание «Переписки» свидетельствуют о том, что главной и единственной целью Гоголя было желание напомнить современникам об истине, открытой Христом. Писатель сам обрел её путём долгих и трудных исканий и теперь спешил рассказать о ней своим современникам. Желая сделать слово Божие близким и понятным, Гоголь вывел его из пространства церковно-славянского языка, но так и не смог найти для него новую форму. И обнажённое слово стало, по выражению Достоевского, «влачиться по улице», сделалось объектом презрения и поругания.
Достоевский, опираясь на открытия Пушкина и критически переосмысляя тяжкий опыт Гоголя, искал и в конце концов нашёл средства художественного выражения евангельского Откровения. Их исследованию и посвящена книга О. И. Сыромятникова, одним из важнейших наблюдений которого над поэтикой великого пятикнижия является то, что личная судьба героев Достоевского прообразует судьбу всего русского народа. Точнее, его наиболее «пассионарной» части – интеллигенции. Такое значение интеллигенции обусловлено не её статусом, образованием или культурой, а реальной возможностью воздействовать на жизнь всех остальных слоёв народа. Интеллигенция, аристократия находится во главе общества и государства. Она обладает реальными средствами управления ими и подобна рулю большого корабля, вся многотонная громада которого послушна малейшему колебанию ничтожной по сравнению с ним дощечки руля.
Эта историческая роль интеллигенции является её атрибутивным свойством, а потому принадлежать к ней должны лишь самые лучшие представители народа. Нравственность человека, уверен Достоевский, вытекает из религиозных убеждений, но именно интеллигенция ко второй половине XIX века оказалась почти полностью лишена этих убеждений. Свою духовную жажду она пыталась удовлетворить не из источников народного духа, а из мутных ручьёв западноевропейской философии, и скоро оказалась заражена «трихинами» атеизма, эгоизма и гордыни. В то же время «простой» народ, по наблюдению Достоевского, ещё обладает сильным духовным иммунитетом и потому не только не нуждается в спасении, но сам может помочь гибнущей интеллигенции. Поэтому героями Достоевского становятся студенты, дворяне, помещики, идущие к Истине путём обретения духовного единства с народом в православной вере.
Достоевский напоминает интеллигенции об её историческом призвании и указывает на огромную ответственность, лежащую на ней перед народом, историей и Богом. Он не устаёт повторять, что главными причинами всех бед интеллигенции и ошибок, совершаемых ею, являются гордость, эгоизм и своеволие. Интеллигенции действительно много дано (она образованна, имеет доступ к мировой культуре), но это дарование – не награда, а поручение, об исполнении которого рано или поздно обязательно придется дать ответ. Об этой ответственности перед будущим и предупреждает Достоевский своих современников.
Сергей Владимирович БЕЛОВ,
лауреат премии Правительства РФ,
академик Академии гуманитарных наук,
профессор, доктор исторических наук,
заслуженный работник культуры РФ,
член Союза российских писателей,
член Международного общества Ф. М. Достоевского
От автора
Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии.
А. С. Пушкин, 1826 год
Тема русской идеи, несмотря на свою богатую историю, сохраняет актуальность. Это вызвано тем, что русская идея – не просто повод поговорить на «интересную» тему, в которой каждый чувствует себя специалистом. Она действительно важна, потому что отвечает на самый главный вопрос, без решения которого жизнь народа – все его подвиги, страдания и свершения – не имеет значения. Это вопрос о смысле жизни народа в мире, обозначаемый понятием «национальная идея». У каждого живого народа свой смысл жизни, и потому у русского народа идея – русская, у китайского – китайская, у американского – американская и т. д. Национальная идея образует основу самосознания народа, который, как и человек, проходит разные этапы своей жизни. В пору детства народ пытается выразить себя в ярких эмоциональных красках фольклора, за которыми ещё только угадывается мысль о самом себе. Взрослея, народ облекает представление о себе в причудливое сложноцветие мифа и эпоса, но наступает время, когда ему важно понять то, что прежде лишь чувствовалось, и услышать прямой ответ о смысле своего бытия. И тогда возникает национальная философия, способная погрузиться в глубины народного духа, найти там бесценное сокровище русской идеи и явить его в ясном и прямом слове. Так в XIX веке появилась русская философия, которую мало интересовали устройство мира и способы его познания, потому что без ответа на главный вопрос всё остальное не имело смысла.
О русской идее писали и говорили А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев и И. А. Ильин, но всё же не они были первыми. Русская философия выросла из лона русской литературы. Уже в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона (XI в.) звучит мысль о русской идее. Предельно ясно и громко она выражена иноком псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем: «Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя; согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвёртому не бывать». С новой силой русская идея зазвучала в строках А. С. Пушкина: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет?». Певцом русской идеи становится Ф. И. Тютчев: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…». О ней пишет Н. В. Гоголь и вслед за ним – вся великая русская литература, публицистика и философия.
Русская идея становится центром общественно-политической и эстетической мысли XIX века. Заговоры декабристов и петрашевцев, проекты отмены крепостного права, реформы образования, армии и судов, периодически вспыхивающие внутренние бунты и войны с внешними агрессорами – вся история XIX века есть не что иное, как ярчайшее и напряжённейшее проявление русской идеи. Словно подводя итоги этой деятельности и одновременно раз и навсегда определяя вектор движения русской общественной мысли, на рубеже XX века В. С. Соловьёв скажет: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Стремление услышать эту мысль, открыть замысел Бога о русском народе и донести его людям становится смыслом существования великой русской литературы. Само её величие явилось следствием глубокого и бесстрашного погружения в стихию философских вопросов о смысле человеческой жизни, смерти и бессмертии, о бытии Бога и об отношении к нему человека – тех самых «вечных» вопросов, без ответа на которые дальнейшая жизнь человека или народа не имеет смысла. Поэтому вся действительно великая русская литература философична, а вся действительно великая русская философия – литературна.
В последней трети XIX века опыт открытия русской литературой и философией содержания русской идеи сфокусировался в творчестве Ф. М. Достоевского. Ещё только вступая на литературное поприще, он определяет его главный смысл, ставший целью всей будущей литературной деятельности: «Поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога». И пожалуй, именно Достоевскому, как никому другому, удалось разгадать очень многое. Писатель сознательно и твёрдо следует мысли А. С. Пушкина о профетическом призвании литературы («Восстань, пророк, и виждь, и внемли…», «Веленью Божию, о Муза, будь послушна…» и пр.). И русская идея становится важнейшей темой творчества Достоевского, ей посвящена большая часть его публицистики, ради неё был создан и знаменитый «Дневник писателя». Она напряжённым нервом звучит и в письмах Достоевского друзьям: «Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной… Вполне разделяю с Вами патриотическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери». Итог многолетнему осмыслению русской идеи Достоевский подводит в своём духовном завещании – «Пушкинской речи», произнесённой 8 июня 1880 года: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, <…> значит <…> стать братом всех людей. <…> Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретённая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».
Идя путём ко Христу, указанным русской литературе Пушкиным, обогащаясь опытом своих великих предшественников, прежде всего Н. В. Гоголя, Достоевский явил миру невиданное прежде чудо – выразил в понятном и близком современникам слове волю Бога о человеке и русском народе. В мировоззрении Достоевского русская идея занимает настолько значительное место, что не может рассматриваться как обычный сюжет или тема его творчества. Писатель постоянно держит в поле своего внимания текущие события российской реальности и сложные коллизии европейской политической жизни, стремясь увидеть в их движении и взаимодействии отражение Высшей воли. При этом он всегда твёрдо следует православной историософской традиции, согласно которой происходящие исторические события являются следствием взаимодействия двух свободных воль – воли Бога и воли человека. Это значит, что будущее зависит от того, какой путь изберёт человек в настоящем. Если он соединит и сонаправит свою волю с волей Бога, то исполнит Его замысел о мире, сделав его прекрасным и счастливым. Если же человек попытается противопоставить свою волю Божьей, мир будет изломан и разрушен, а сам человек погибнет. Воля Бога открыта в Священном Писании, и для того чтобы понять, как и что человек должен сделать в ответ, Достоевский глубоко и скрупулёзно исследует национальный характер русского народа, осмысляя его достоинства и недостатки. Это осмысление является важнейшей частью русской идеи Достоевского. Другой её частью является изучение национальных характеров европейских христианских народов, итоги которого писатель обобщает понятием «западная идея». Он полагает, что при всей разности судеб европейских народов в них есть нечто общее. Это «нечто» – отступление западного мира от первоначального учения Христа и «воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве». Именно в религии, а не в географических, биологических или даже в социальных, экономических и политических предпосылках видел писатель основу национальной идеи народа. Это – важнейшее открытие Достоевского, сделавшее бессмысленным разговор о национальной идее в плоскости естественнонаучных, экономических или социальных теорий. Оно стало возможным благодаря христианской онтологии и гносеологии, составившим основу мировоззрения Достоевского и нашедшим яркое выражение в его убеждениях, жизни и творчестве. Это даёт основание утверждать, что всё творчество Достоевского – это творчество православного христианина. Можно отрицать этот факт или не придавать ему значения, но нелепо и абсурдно говорить о том, что философия художника и сам художник – это нечто разное, что нужно их рассматривать и оценивать отдельно друг от друга. Принять эту мысль – значит согласиться с тем, что следует прежде всего говорить о химическом составе красок и фактуре холста, а не о том, что именно художник хотел сказать своей картиной. Нельзя согласиться и с идеей М. М. Бахтина о полифоничности великих романов Достоевского. «Полифоническая теория» вообще едва ли применима к великим произведениям русской литературы. «Поэт в России больше, чем поэт», – сказал Е. А. Евтушенко, констатируя свершившийся факт: русский поэт – всегда пророк. И его голос не может быть «равным среди равных», он всегда звучит громче голосов его героев, споривших или соглашавшихся с ним, он убеждает или отвергает, но всегда – пророчествует. Из плеяды русских писателей XIX века ближе всего к понятию «полифонии» стоит творчество Л. Н. Толстого. Однако это лишь видимость, иллюзия, ставшая результатом мастерства писателя, который сознательно скрыл свой голос за яркой разноголосицей своих персонажей. Скрыл, но от этого его голос не стал тише, а даже приобрёл особую притягательную силу. И сам Толстой прекрасно знал об этой силе своего слова, говоря о том, что цель литературы (и всего искусства) – «заражать» читателя мыслями. Поэтому, как бы ни скрывал Толстой своё лицо, оно всегда мелькает за лицами его любимых героев:
Пьера Безухова, Константина Лёвина и др. В отличие от Толстого, Достоевский открыто, ясно и убеждённо провозглашал: «В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное – ничего и не значит. Такая художественность нелепа…». После этих слов утверждать, что голос писателя – лишь один из множества голосов разных образов, как это делал Бахтин, по меньшей мере странно.
Столь же нелепо выглядит и миф об экзистенциальности творчества Достоевского, который никогда не был художником «для себя» или «про себя». Напротив, следуя профетическому импульсу, приданному русской литературе Пушкиным («Пророк», 1826), писатель стремился открыть современникам замысел Бога о мире и человеке. И он передал нам свой личный опыт богообщения так же, как это делали первые апостолы Христа в своих евангелиях и посланиях. Поэтому без веры в Бога, без движения к Нему по пути, хранимом Православной церковью, читать Достоевского нельзя. Точнее, можно именно читать, не понимая и не принимая. Взгляд и ведомая им мысль будут вечно скользить по поверхности слова, иногда созвучно двигаясь с ним, иногда расходясь, но никогда не соединяясь живой духовной связью. Потому что слово Достоевского – это, прежде всего, слово духовное, и одной душевной чуткости для его понимания недостаточно.
Бог и Россия – два полноводных потока, образующих океан творчества Достоевского. Без любви к Богу никогда не понять Россию, без любви к России не понять Достоевского. Не понять и не полюбить Достоевского – значит, навсегда остаться на пороге тайны по имени «русская идея».
* * *
Методология данной работы строится на взаимодополнении различных методов литературоведения, а также оригинальном авторском методе исследования идеи литературного произведения. Подробно он был изложен в нашей работе «Особенности воплощения русской идеи в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»» (2011). Кратко изложим основные методологические подходы, представленные в этой работе.
Под идеей литературного произведения (ИЛП) мы понимаем единство замысла, объективного содержания произведения и его авторской оценки. Рассматривая ИЛП через соотношение общегносеологических категорий формы и содержания, мы представляем её как сложное диалектическое единство главной, внешней и внутренней идеи. Под главной идеей мы понимаем часть мировоззрения автора, стремящуюся к самовыражению, в результате которого, рационализуясь как замысел, она воплощается в художественном материале и становится идеей произведения. Формой ИЛП является внешняя идея, включающая в себя тему, сюжет, образную систему, конфликт, проблему и первичную композицию, а содержанием – внутренняя идея, представляющая собой решение проблемы, всегда обусловленное мировоззрением писателя, частью которого является главная идея. При этом если внешняя идея всегда наличествует в произведении как его объективное содержание, то содержание внутренней идеи возникает только в результате идейного синтеза содержания внешней и формы внутренней идеи (авторского варианта разрешения проблемы).
Подобное представление о внутренней структуре ИЛП определяет метод её изучения, который объективно сопрягается с методологическими средствами, применяемым самим Ф. М. Достоевским для раскрытия содержания русской идеи. Прежде всего, речь идёт о корректной экстраполяции идеи одного образа на идею какой-либо значимой социальной группы российского общества последней трети XIX века (интеллигенции, молодёжи, студенчества и пр.) или всего этого общества. Правомерность подобного действия обосновывает сам Достоевский в предисловии к русскому изданию романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1862), говоря, что «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия» есть «мысль христианская и высоконравственная; формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. <…> Кому не придёт в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетённого и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одарённого только страшной физической силой, но в котором просыпаются наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и ещё непочатых, бесконечных сил своих. Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве» [20; 28–29][2 - Сноски на произведения Достоевского даются по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 томах. – Л.: Наука, 1972–1990. Сноски оформляются квадратными скобками, где первая цифра указывает номер тома в ПСС, а вторая – номер страницы. В случае если том состоит из двух книг, вторая цифра указывает номер книги, а третья – номер страницы в ней.Написание церковно-славянской лексики в текстах Достоевского восстановлено по изданию: Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (с многочисленными приложениями). Санкт-Петербург, Товарищество «Просвещение», 1896.Ссылки на Священное Писание даны построчно, в круглых скобках.Все формы выделения текста в цитируемых источниках сохраняются. Наше выделение отмечается отдельно.].
Говоря об этом, Г. М. Фридлендер обращается к мысли Л. Е. Пинского, который «выдвинул <…> в качестве важнейшего понятия для теоретически ориентированного литературоведения понятие о «магистральном сюжете» <…>. «Магистральный сюжет, – писал Пинский, – это то коренное, субстанциональное в фабуле, характерах, построении <…>, что как бы стоит за отдельными произведениями некой целостностью, проявляясь, видоизменяясь в них, – «явлениях», модификациях, вариациях жанра – при сопоставлении этих произведений «в контексте» художественного творчества и писательского восприятия»»[3 - Фридлендер Г. М. От «Мёртвого дома» к «Братьям Карамазовым» // Достоевский: Материалы и исследования. – СПб: Наука, 1996. – Т. 13. – С. 19]. Фридлендер напоминает известное обращение Н. В. Гоголя к современникам: «Будьте не мёртвые, а живые души»[4 - Гоголь Н. В. Друзьям моим / В кн.: Гоголь Н. В. Нужно любить Россию. О вере и Государстве Российском. – СПб: Русская симфония, 2007. – С. 478.]. По мысли исследователя, каждый из великих русских писателей по-своему «развил этот завет Гоголя, сделав идею нравственного восстановления и «воскресения» своих героев к новой жизни главной идеей (курсив наш. – О. С.) своего творчества, его «магистральным сюжетом»»[5 - Фридлендер Г. М. От «Мёртвого дома» к «Братьям Карамазовым»… – С. 19.].
Мы полагаем, что эффективность любой методологии определяется её изоморфностью объекту исследования. Современное достоеведение исходит из представления о том, что Достоевский был православным христианином, глубоко знавшим учение Православной церкви и отлично владевшим её языком. Мы разделяем мнение многих достоеведов (С. В. Белова, В. Е. Ветловской, В. А. Викторовича, В. Н. Захарова, И. Кирилловой, Л. И. Сараскиной, К. А. Сте паняна, Б. Н. Тихомирова и др.) о том, что идейное содержание творчества Достоевского не может быть раскрыто в необходимой полноте без обращения к идеям, сюжетам и образам Священного Писания. Вследствие этого исследование его творчества должно опираться и на богословскую методологию, включающую в себя ресурсы таких дисциплин, как экзегетика, аскетика, гомилетика и литургика.
Один из вариантов такого подхода показан в трудах митрополита Антония (Храповицкого), посвящённых творчеству Достоевского. Владыка Антоний подчёркивал, что Достоевский «всё время писал об одном и том же. <…> Та объединяющая все его произведения идея, которую многие тщетно ищут, была не патриотизм, не славянофильство, даже не религия, понимаемая как собрание догматов, эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной, она была не посылкой, не тенденцией, но просто центральной темой его повести, она есть живая, близкая всякому, его собственная действительность. Возрождение – вот о чём писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточённое самоубийство; только около этих настроений вращается вся жизнь всех его героев, и лишь с этой точки зрения интересуется сам автор различными богословскими и социальными вопросами…»[6 - Антоний (Храповицкий), архиепископ. Избранные труды, письма, материалы. – М.: ПСТГУ, 2007. – С. 254–255.]. Полагаем эти мысли справедливыми, так как спасение от смерти является главной онтологической и гносеологической целью христианина. Принимая утверждение владыки Антония как методологическую предпосылку, мы ставим перед собой задачу подтвердить или опровергнуть его.
История и содержание понятия «русская идея» рассмотрены нами в нашей кандидатской работе, где показано, в частности, что своеобразие национальной идеи определяется специфическими чертами национального характера (менталитетом) выражающего ее этноса. Применительно к русской идее такими чертами являются: глубокая антиномичность, эсхатологизм и апокалипсизм, мессианизм и миссианизм, соборность, профетизм, православная этика и др. Наиболее полно содержание русской идеи проявляется в её конфликтном взаимодействии с западной идеей – понятием общественного сознания, выражающем представление о месте и роли западной цивилизации в мировой истории.
В российском общественном сознании русская идея возникает, по мысли Н. А. Бердяева, в 30?40?е годы XIX столетия как предмет формирующейся русской философии и в дальнейшем существует в виде вопроса о месте и роли России, предполагающем славянофильский, западнический и консервативный варианты ответа. Весь XIX век русская идея находилась в центре идейно-эстетической полемики русской общественной мысли, что привело к появлению не только её публицистических вариантов (П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский, А. С. Хомяков, Т. Н. Грановский, И. В. Киреевский, И. и К. С. Аксаковы, Н. Я. Данилевский и др.), но и к воплощению русской идеи в образности художественных произведений (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Ф. И. Тютчев, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой и др.).
«Преступление и наказание» – первая попытка выражения русской идеи в великом пятикнижии
Первый роман великого пятикнижия, «Преступление и наказание», был создан в период 1865–1866 годов. Л. Д. Опульская замечает, что сюжет романа «вобрал в себя множество элементов из <…> более ранних, в своё время не осуществлённых замыслов»[7 - Опульская Л. Д. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 308.]. Поэтому содержание «Преступления и наказания» включает в себя все «ведущие» (Бахтин) темы писателя, лёгшие в основу его будущих произведений: разложение религиозного сознания России и сопровождаемая им девальвация традиционных для русского народа нравственных ценностей; импорт западного атеизма, позитивизма и социализма и возникновение на их основе социального нигилизма; распад традиционной русской семьи; поиски жизненного пути молодым человеком с незаурядными способностями; любовь и ненависть; вера в Бога, её утрата и новое обретение и т. д.
Впервые роман был напечатан в журнале «Русский вестник» издателя М. Н. Каткова. В письме к нему от 10–15 сентября 1865 г. Достоевский сообщил основной замысел своего романа: бывший студент совершает убийство с целью грабежа, надеясь на добытые средства обеспечить жизнь близких и свою карьеру. Обосновав правомерность преступления с помощью различных псевдонаучных идей, совершает его, после чего сталкивается с реальностью, которая обнаруживает неправду его прежних убеждений и принуждает признаться в содеянном, чтобы годами страданий в каторге искупить свой грех и воссоединить разорванную преступлением связь с человечеством. То есть речь идёт о падении и последующем воскресении человека – «основной мысли всего искусства девятнадцатого столетия». Эта мысль, по убеждению Достоевского, – «христианская и высоконравственная; формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков.
Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» [20; 28] – и является содержанием внешней идеи романа.
Здесь же Достоевский намечает и основные подходы к созданию формы этой идеи, стремясь за счёт криминальной канвы сюжета придать ей яркость и «занимательность»: «Это – психологический отчёт одного преступления». Время романного действия актуально: «Действие современное, в нынешнем году». Ясно обозначен главный герой и его социальный статус: «Молодой человек, исключённый из студентов университета, мещанин по происхождению…», провинциал (мать живёт в уезде). Указаны основные причины, толкнувшие его на преступление: «крайняя бедность» и его заражённость «некоторыми странными «недоконченными» идеями, которые носятся в воздухе», и его цель: «сделать счастливою свою мать», «избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства», «докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твёрдым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем, уже конечно, «загладится преступление» [28, 2; 136]. Задана основа системы образов: положительные персонажи (мать, сестра) и отрицательный (сластолюбивый помещик), вступающие в конфликт друг с другом. Задуманное преступление должно совершиться «и скоро и удачно», «никаких подозрений нет и не может быть». Но «неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берёт своё, и он – кончает тем, что принуждён сам на себя донести» [28, 2; 137].
Писатель ясно и однозначно указывает на главную причину преступления своего героя – оно стало следствием действия «странных, недоконченных» идей, завладевших душой молодого человека. Причём кавычки Достоевского – «недоконченные» – в письме к такому деятелю, как М. Н. Катков, могли означать не только незавершённость этих «идей», но и то, что их надо «докончить» (т. е. побороть и уничтожить) раз и навсегда. И сделать это должны противоположные им идеи – «Божия правда» и «земной закон», содержание которых Достоевский не раскрывает, так как оно напрямую связано с его личными мировоззренческими установками и с главной идеей его творчества.
На наш взгляд, этот замысел воплотился в романе полностью. Незначительные изменения не имеют принципиального характера: опущен социальный статус главного героя[8 - Рассматривался вариант – «дворянин» [7; 186].]; от преступления до признания – не «почти месяц», а всего десять дней. Более важным представляется то, что наказание начинается ещё до преступления. «Неразрешимые вопросы»: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»; «неподозреваемые и неожиданные чувства»: «Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?» [6; 50] «восстают» перед главным героем ещё до преступления. С православной точки зрения Раскольников стал преступником не тогда, когда поднял топор, а когда сознательно и свободно «позволил своей совести перешагнуть через кровь». Однако в словах героя заметен самообман – следствие работы ослеплённого гордыней разума, который, используя «отточившуюся как бритва казуистику», зарезал живую душу Раскольникова и «придушил в ней нравственное чувство» – совесть. Совесть человека стоит на страже нравственного закона и потому не может желать его нарушения, а уж тем более испрашивать на это санкцию у разума. Помимо изложения содержания внешней идеи романа (преступление и падение человека), Достоевский указывает и на возможную форму внутренней идеи. Нужно отметить, что уже сама архитектоника письма к Каткову говорит об ясном различении писателем внешней и внутренней идеи его романа: изложив внешнюю идею отдельным абзацем, он с красной строки начинает рассуждать о возможных путях воскресения своего героя (внутренней идее романа). Достоевский прямо указывает на обстоятельства этого воскресения («Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце, <…> чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством…») и его основные движущие силы («Божия правда, земной закон берет своё, <…> закон правды и человеческая природа взяли своё»). Важно помнить, что писатель рассуждает о внутренней идее романа, которого к моменту написания письма не существовало даже в черновике, и её невыразимость сразу проявляется в тексте. Многие слова последних строк абзаца, содержащего изложение формы внутренней идеи, неразборчивы, писатель словно сомневался в необходимости дописывать их: «Закон правды и человеческая природа взяли своё, убежд<ение?> внутреннее<?> даже без сопр<отивления?>.
Преступн<ик> сам решает принять муки, чтоб искупить своё дело» [28, 2; 137]. Здесь Достоевский начинает повторять сказанное выше, а потому прекращает попытки выразить внутреннюю идею романа: «Впрочем, трудно мне разъяснить вполне мою мысль. Я хочу придать теперь художеств<енную> форму, в которой она сложил<ась>. О форме <не закончено>» [28, 2; 137]. Действительно, говорить об окончательной форме внутренней идеи можно только после синтеза идейного содержания внешней.
По замыслу писателя, Раскольников должен был стать «одним из членов нового поколения» [7; 149], которое живёт в обществе, не имеющем ясного идеала, объединяющего людей и определяющего цели их деятельности. Реформы 1860?х годов были необходимы, но их следствием стало разложение традиционного уклада семейной и хозяйственной жизни, девальвация духовно-нравственных ценностей, утрата чётких жизненных ориентиров и идеалов. Молодёжь оказалась представлена самой себе. Позади – отвергаемое и презираемое прошлое, впереди – неясное будущее. Онтологическая неустойчивость молодого поколения подчёркивается писателем в письме к Каткову («Молодой человек, по шатости в понятиях…») и подбором для него «говорящей» фамилии – «Шатов» [7; 93].
Мысли о будущем русской молодёжи не оставляли Достоевского ни на минуту: «У наших же у русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек, есть ещё свой, вечно пребывающий основной пункт, на котором ещё долго будет зиждиться социализм, а именно, энтузиазм к добру и чистота их сердец» [28, 2; 154]. Этот процесс отрыва русской молодёжи от почвы и вовлечения её в «социализм, коммунизм, атеизм – самые лёгкие три науки» [24; 300], в своем единстве образующие нигилизм, постоянно находится в центре внимания писателя. Тем более что общественное мнение, на его взгляд, недооценивает развращающую силу нигилизма, вследствие чего в литературе «у нас чрезвычайно много напускных нигилистов» [28, 2; 61]. Достоевский открыто иронизирует над этим пережитком романтизма – «всеми нашими поэмами и романами с героями с «раздвоенною жизнью и высшим прозрением»» [23; 141] – и ставит перед собой задачу показать нигилиста настоящего, решительного, проповедующего учение «встряхнуть все par les quatre coins de la nappe[9 - Буквально: четырьмя углами скатерти (франц.).], чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия» [28, 2; 154]. На примере развития идей нигилизма в сознании одного человека писатель показывает процесс «нигилизации» всего общественного сознания России. Поэтому судьба главного героя символизирует судьбу всей русской молодёжи.
Сохранившиеся подготовительные материалы, дневниковые записи и письма Достоевского этого периода позволяют с большой степенью достоверности представить весь процесс воплощения идеи романа: от замысла до последних авторских поправок. Это, в свою очередь, даёт возможность точно указать момент идейного синтеза[10 - Идейный синтез представляет собой важнейший этап создания художественного произведения, без которого невозможно появление содержания его внутренней идеи. Главная идея стремится к гармонии с объективным содержанием произведения, и автор ищет способ выразить её так, чтобы избежать тенденциозности и сохранить реалистичность уже созданных образов. При этом, несмотря на объективное значение идейного синтеза, крайне важна и оценка его результатов самим автором, потому что её итогом могут стать изменения в системе образов и композиции произведения.], значение которого Достоевский прекрасно сознавал: «Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с (курсив наш. – О. С.); побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберётся в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его» [28, 1; 210]. Две первые попытки воплощения первоначального замысла не удовлетворили писателя, так как их форма не привела к синтезу содержания уже готового материала. Писатель так сообщал об этом А. Е. Врангелю 18 февраля 1866 года: «В конце ноября было много написано и готово; я всё сжёг; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлёк, и я начал сызнова» [28, 2; 150].
Опираясь на даты в рабочих тетрадях Достоевского и учитывая характер содержащихся в них записей, можно определить хронологические рамки идейного синтеза «Преступления…» с достаточной точностью. Его началом следует считать записи в рабочей тетради, свидетельствующие об окончательном определении формы будущего произведения: «Перерыть все вопросы в этом романе. Но сюжет таков. Рассказ от себя, а не от него», а также метода его создания: «Предположить нужно автора существом всеведующим и не погрешающим <…>. Полная откровенность вполне серьёзная до наивности, и одно только необходимое» [7; 148–149]. «Перерыть» – значит, не только выделить главный вопрос, указывающий на основную проблему романа, но и определить возможные пути его разрешения – наметить форму внутренней идеи. Дальнейшая работа приводит Достоевского к окончательному утверждению имён персонажей и мест их жительства [7; 153] и завершается кульминацией идейного синтеза, результат которого отражают записи от 2 января 1866 года. В силу особой важности приводим их факсимильный вариант [7; 75], так как построчное изложение [7; 154] значительно искажает смысл:
Тщательно продуманная архитектоника текста отражает кульминацию идейного синтеза, чётко фиксируя последовательность его стадий. Обращает на себя внимание отсутствие запятой в оригинале после слов «Православное воззрение», указывающее переход от определения идеи романа («православное воззрение») к авторской задаче – показать, «в чём есть православие». Заметим, что никто из известных нам писателей никогда не ставил перед собой столь грандиозной задачи. Думается, что её блестящее выполнение и подняло творчество Достоевского на ту недосягаемую высоту, на которой оно находится сейчас. Становится ясна и причина непонимания Достоевского: без сердечного усвоения истин православной веры восприятие творчества православного писателя неизбежно превращается в его неприятие.
Определив, таким образом, внутреннюю идею романа, Достоевский делает отчерк и записывает ниже: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты…» [7; 154]. Это суждение перекликается со словами Сони Раскольникову в записи от 7 декабря 1865 года: «А в комфорте-то, в богатстве-то вы бы, может, ничего и не увидели из бедствий людских» [7; 150], – и непосредственно восходит к содержанию внешней идеи, как оно было сформулировано в письме к Каткову[11 - В тексте романа эту идею выражает Порфирий Петрович: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитуется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте» [6; 348].]. На следующей странице утверждаются идеи образов Раскольникова («Непомерная гордость») и Сони («Она ведёт ему напротив») [7; 155]. И уже после этого следует конкретизация черт характеров Разумихина, Свидригайлова, Лужина и других персонажей, заканчивающаяся записями, относящимися к середине февраля 1866 года.
Таким образом, границами идейного синтеза следует считать записи «Перерыть все вопросы в этом романе…» и «СИМВОЛ ВЕРЫ….» [7; 148 и 161], что составляет временной промежуток от конца ноября 1865 года до середины февраля 1866 года. Кульминация идейного синтеза, результатом которой стало определение внутренней идеи романа («Православное воззрение…»), произошла 2 января 1866 года.
Следует отметить особое обстоятельство, повлиявшее на ход работы над романом и её результат. Предлагая «Русскому вестнику» ещё не написанный роман, Достоевский сообщил о своём крайне бедственном материальном положении и получил аванс, в результате чего оказался в полной зависимости от издателя. Вскоре обнаружилось, что идеологическая позиция Каткова хотя и не враждебна писателю, но и не вполне близка, что выразилось в требованиях переделать некоторые сцены романа. Между тем, приступая к работе, в декабре 1865 г. Достоевский писал: «Я люблю мою теперешнюю работу, я слишком много возложил надежд и <…> на этот роман мой», «с любовью занимаюсь моей работой и дорожу впечатлением на публику…», а потому «покорнейше прошу редакцию «Русск<ого> вест<ника>» не делать в нём никаких поправок. Я ни в каком случае не могу на это согласиться» [28, 2; 145, 146, 147].
Эта просьба была проигнорирована, и 25 апреля 1866 г. Достоевский пытается объясниться с Катковым: «Откровенно говорю, что я был и, кажется, навсегда останусь по убеждениям настоящим славянофилом, кроме крошечных разногласий, а следовательно, никогда не могу согласиться вполне с «Московскими ведомостями»[12 - Эта газета также издавалась Катковым.] в иных пунктах» [28, 2; 154]. Он подробно излагает свои взгляды, ставшие внутренней идеей романа: «Учение «встряхнуть всё par les quatre coins de la nappe, чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия», – корней не требует. Все нигилисты суть социалисты. Социализм (а особенно в русской переделке) – именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на tabula rasa они тотчас выстроют рай. Фурье ведь был же уверен, что стоит построить одну фаланстеру и весь мир тотчас же покроется фаланстерами; это его слова. А наш Чернышевский говаривал, что стоит ему четверть часа с народом поговорить, и он тотчас же убедит его обратиться в социализм. <…>. Но все эти гимназистики, студентики <…> так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы! Ведь они беззащитны против этих нелепостей и принимают их как совершенство. Здравая наука, разумеется, всё искоренит. Но когда ещё она будет? Сколько жертв поглотит социализм до того времени? И наконец: здравая наука, хоть и укоренится, не так скоро истребит плевела, потому что здравая наука – всё ещё только наука, а не непосредственный вид гражданской и общественной деятельности. А ведь бедняжки убеждены, что нигилизм – даёт им самое полное проявление их гражданской и общественной деятельности и свободы» [28, 2; 154].
Многие из этих мыслей были, безусловно, близки Каткову, но свои требования к роману он не смягчил. Наибольшие нарекания вызвала сцена чтения Евангелия и последующий разговор Сони с Раскольниковым. По требованию редакции Достоевский неоднократно изменял её первоначальный вариант, и наконец 8 июля 1866 года он пишет редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову: «Переделал и, кажется, в этот раз будет удовлетворительно. Зло и доброе в выс шей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет. Равномерно, прочие означенные Вами поправки, я сделал все и, кажется, с лихвою <…>. А теперь до Вас величайшая просьба моя: ради Христа – оставьте всё остальное так, как есть теперь. Всё то, что Вы говорили, я исполнил, всё разделено, размежевано и ясно. Чтению Евангелия придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на Вас понадеяться: поберегите бедное произведение моё, добрейший Николай Алексеевич!» [28, 2; 164].
Об осложнившихся отношениях с «Русским вестником» писатель с тревогой сообщает А. П. Милюкову: «В расчете Любимова <…> была ещё и другая <…> мысль, а именно: что одну из этих, сданных мною 4?х глав, – нельзя напечатать, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. Я с ними с обоими объяснялся – стоят на своём! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал её в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав, – ничего не было против нравственности и даже чрезмерно напротив, но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма. Любимов объявил решительно, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3?х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда! Не видал Любимова потом и не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? То же было и ещё с одной главой (из этих 4), где Любимов объявил мне, что много выпустил (хотя я за это и не очень стою, потому что выпустили место неважное). Не знаю, что будет далее, – но эта, начинающая обнаруживаться с течением романа противоположность воззрений с редакцией начинает меня очень беспокоить» [28, 2; 166]. Наконец, 19 июля 1866 г. Достоевский лично обращается к Каткову: «Что же касается до переделок и выпусков, сделанных Вами, то некоторые из них, как замечаю теперь, конечно, необходимы, но других выпусков (в конце) мне жалко. <…> Об одном бы выпуске попросил Вас, на странице 786 (отметил на полях карандашом NВ) – нельзя ли восстановить? Тут ясно для читателя, что если он говорит: я счастли<в>, то уж, конечно, не потому, что любуется своим поведением. Впрочем, если нельзя, то нечего делать» [28, 2; 166–167]. Просьба писателя осталась без удовлетворения. Особое значение для понимания идейного содержания литературного произведения имеет оценка его самим автором. Достоевский писал о романе: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб кончить его хорошо» [28, 2; 156]; «Одним словом, мне бы хотелось кончить роман так, чтоб подновить впечатление, чтоб об нём говорили так же, как и вначале» [28, 2; 170] и т. д. Думается, это удалось вполне, потому что, работая над отдельным изданием романа (1867), Достоевский, по наблюдению Л. Д. Опульской, «никаких добавлений (кроме отдельных слов и фраз) <…> не внёс, а напротив – сделал сокращения, устранив длинноты и сняв второстепенные детали»[13 - Опульская Л. Д. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 328.].
Внимание читателей и исследователей всегда привлекала социальная проблематика романа, особенно те её детали, которые представлены писателем в традициях «натуральной школы», а также «психологизм», под которым обычно понимается описание душевных переживаний героев. Известно, что сам Достоевский выступал против такой оценки. Картины внешней (в т. ч. и социальной) действительности и душевного мира человека в его произведениях всегда служат для проникновения в духовную реальность и вхождения в символический уровень повествования, выражающий русскую идею. На этом уровне личная судьба героя развертывается до соборной судьбы всего народа.
Эту особенность романов Достоевского ещё в 1970 году тонко почувствовал В. Я. Кирпотин: ««Преступление и наказание» нигде не перестаёт быть художественно-индивидуализированным рассказом о Раскольникове, о его внутренней жизни, о его идеях и замыслах, о его преступлении, о его наказании, о его судьбе. Но в рассказе само собой складывается общее, из рассказа сам собой выступает смысл, который в конце концов один только и важен был Достоевскому, потому что он горел всеми горестями мира и с неистово спешащей тревогой искал средств для его исцеления. Личность Раскольникова и всех сопровождающих его лиц <…> даже тогда, когда <они> не думают об этом, двигают историю. Даже тогда, когда они обсуждают и решают свои собственные дела, они обсуждают и решают те самые проблемы, над которыми бились русские люди в ту замечательную пору шестидесятых годов, значение которых перелилось и за национальные границы»[14 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М.: Сов. писатель, 1970. – С .7.].
Исследователь почувствовал проблематику русской идеи: «Старые идеалы были низвергнуты, новые себя не оправдали, а истинный идеал или ещё не народился, или ещё не был осознан ни отдельными людьми, ни целыми народами. Это ещё более расширяло и ещё более обобщало подтекст романа»[15 - Там же. – С. 9–10.]. При этом «никто, кроме Достоевского в его романах, не умел с таким художественным тактом указать на всемирно-исторические рамки своего повествования. Да, это только один роман, казалось, говорил он, но это страница, важная для выбора пути в будущее всем человеческим родом»[16 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 10.]. Кирпотин отмечает и особый профетический пафос слова Достоевского, поставившего перед собой «задачу, как выполнить роль не только художника, но и пророка – указать путь в обетованную землю гармонии и счастья»[17 - Там же. – С. 13.]. Однако из верных наблюдений делается неверный вывод: «Достоевский <…> не мог не признать, что жизнь наверху и внизу, в глубине народных масс, сдвинулась по какому-то иному, не «почвенническому», неожиданному для него и жестокому пути»[18 - Там же. – С. 12.]. Об этом же и с такою же уверенностью писал уже в 2010 г. В. К. Кантор: «Путь религиозного переустройства мира, единения интеллигенции с народом на основе православия оказался утопией»[19 - Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: очерки. – М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 219.], и потому «русский ветхозаветный пророк не был принят своим народом»[20 - Там же. – С. 403.]. Скажем, что теоретическая почвенническая программа Достоевского действительно оказалась слабее его вдохновенных художественных открытий. И хотя Кантор не прав в отождествлении Достоевского с ветхозаветными пророками, он всё же прав в том, что Достоевский действительно пророк, то есть человек, которому Бог поручил выразить свою волю о народе, к которому он принадлежит.
К сожалению, наблюдения Кирпотина и других исследователей не двинулись в направлении осмысления связи русской идеи с поэтикой романа. Единственным таким упоминанием считаем указание С. В. Белова о символическом смысле имени главного героя, также не нашедшее своего дальнейшего развития. Однако не случайно В. В. Розанов назвал этот роман «самым совершенным романом Достоевского». Он – наиболее точное пророчество Достоевского о судьбе России. Точнее – самое ближайшее, сбывшееся пророчество: Россия соблазнилась мечтой о «земном рае», согрешила, совершила множество страшных и бессмысленных преступлений, а затем нашла путь к возрождению.
Раскольников отражает собой идеи всех других героев романа, что и создаёт так называемый «эффект двойничества», а точнее – идейной полифонии. В его образе сошлись несколько линий: духовная, психологическая, эстетическая, социальная. В последнее время интенсивно исследуется духовная линия (падение и восставание человека[21 - Значительный вклад сделан Б. Н. Тихомировым в его основательной работе ««Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий». – СПб: Серебряный век, 2005. – 472 с.]), но символический уровень (уровень русской идеи) остаётся нераскрытым. Между тем внутренний мир Раскольникова связан с другими героями множеством неразрывных прочных нитей духовного родства. При этом не важно, сознаёт это человек или нет, но связь эта есть, и разрушить её может лишь смерть. Так, Раскольников инстинктивно узнаёт в Соне подобное себе существо: «Мы вместе прокляты, вместе и пойдём! <…> Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила…» [6; 252]. Напомним, что через эту близость Раскольников оказался связан и с Лизаветой – духовной сестрой Сони, а через неё – и со своей главной жертвой. Особое внутреннее расположение к Раскольникову чувствуют Разумихин, Мармеладов, Катерина Ивановна, Свидригайлов, уличная проститутка Дуклида и другие персонажи романа.
Идея Раскольникова раскрывается на индивидуальном и символическом уровнях. Индивидуальный включает в себя нравственные, психологические и эстетические переживания героя и его интеллектуальные размышления, но главным всегда остаётся духовное пространство, в котором происходит падение и восставание Раскольникова. Символический уровень служит для выражения русской идеи Достоевского. Здесь индивидуальная судьба героя прообразует историческую судьбу всей России. Поэтому в романе не одна (как утверждалось ранее), а две кульминационные сцены. На индивидуальном уровне это сцена чтения Евангелия Соней, с которой начинается преображение Раскольникова, а на символическом – это сцена у постели Раскольникова, где происходит столкновение славянофильской (Разумихин) и западнической (Лужин) точек зрения на судьбу России. Заметим, что одним из первых на историософский контекст этой сцены обратил внимание В. Я. Кир потин[22 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 8–16.], однако размышления исследователя остались в плоскости социально-истори ческой действительности, не получив символического обобщения.
* * *
По словам Н. А. Бердяева, «в конструкции романов Достоевского есть очень большая централизованность. Все и всё устремлено к одному центральному человеку, или этот центральный человек устремлён ко всем и всему. Человек этот – загадка и все разгадывают его тайну»[23 - Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. – М.: ЗАХАРОВ, 2001. – С. 28.]. Речь идёт о центральном герое, осуществляющем сюжетообразующую и композиционную функцию, тогда как главный герой обеспечивает идеологическое наполнение романа. В «Преступлении и наказании» эти функции совмещены в образе одного персонажа – Раскольникова.
Система образов романа, состоящая из персонажей (героев) и картин, построена по принципу концентрических кругов, в центре которых находится главный герой. Первый круг образуют персонажи, оказавшие на его судьбу непосредственное воздействие: Соня и Порфирий Петрович. Второй круг составляют персонажи, деятельность которых связана с главным героем, порой обращена непосредственно на него, но он не зависит от неё: члены семейств Раскольниковых и Мармеладовых, а также Свидригайлов, Лужин и Лебезятников.
Третий круг состоит из персонажей, одни из которых присутствует в романе только на вербальном уровне, подобно «голосу за сценой», а другие имеют краткие словесные или визуальные портреты («полуголоса» – по Бахтину). Персонажи этого круга не связаны непосредственно с главным героем, а в своей совокупности образуют фон, на котором действуют он сам и персонажи первого и второго круга. Некоторые персонажи третьего круга несут на себе статичную негативную авторскую оценку, проявляющуюся, прежде всего, в нарочито комичных и пародийных чертах их внешности, а также в присвоении им неблаговидных социальных ролей (содержательницы публичных домов Дарья Францевна и Луиза Ивановна, хозяйки квартир и «углов» Амалия Ивановна Липпевехзель и Гертруда Карловна Ресслих и пр.)[24 - Большую часть этих персонажей составляют немцы, которые, как показывает С. В. Белов, «в 1869 г. <…> были самой большой инородной прослойкой населения столицы Российской империи; из 667 207 человек жителей Петербурга немцев было 46 498» [23; 50], а также «чухонцы», которые «после немцев <…> были самым большим по численности нерусским населением Петербурга» [23; 107], четыре поляка, и один еврей.].
Четвёртый, самый большой круг, – круг Петербурга. Он образован городскими и пригородными пейзажами, описаниями цвета, света, запахов и звуков летнего города, его отдельных мест, домов, переулков, трактиров и т. п. В описаниях города Достоевский следует традиции Пушкина и Гоголя, в которой город является не декорацией для основного действия, а полноправным героем. Он исподволь, но непреодолимо и властно управляет жизнью своих жителей: «Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. <…> Вы выходите из дому – ещё держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже её опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни перед собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причём иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго» [6; 357]. Это наблюдения Свидригайлова за Раскольниковым, но так ходит и Соня – «спеша, ничего не замечая…» [6; 187] – и многие другие петербуржцы в сочинениях Достоевского и писателей «петровского периода» русской литературы.
Город, где происходит действие романа, наполнен удушливой атмосферой безверия, нигилизма и разврата. Человек, не имеющий крепкого духовного иммунитета, рано или поздно заражается злом, растворённым в его атмосфере, постепенно перестаёт различать добро и зло и в конце концов гибнет. Это участь Раскольникова, Миколки и всего «отравленного поколения» России. Поэтому, замечает С. В. Белов, «Петербург такой же виновник преступления Раскольникова», как и он сам. Более того, он – главный его виновник, так как «он заражает Раскольникова преступной идеей»[25 - Белов С. В. Петербург Достоевского. – СПб: Алетейя, 2002. – С. 14.]. В самом облике Петербурга «как по книге, прочтёте все наплывы всех идей и идеек, правильно или неправильно залетевших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших»[26 - Там же. – С. 27.]. Наконец, он представляет собой «административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всём» [6; 357]. В романе это выражается постоянной нехваткой воздуха для жизни новых живых сил, мечтами Разумихина о деятельности на «общую пользу», ожиданиями Порфирия Петровича реформ законодательства и надеждами Лужина на перестройку российской жизни по европейскому образцу.
Идею образа Петербурга писатель выражает особым художественным средством – картиной в форме духовного пейзажа. Раскольников смотрит на Петербург с Васильевского острова: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…» [6; 90]. Как справедливо замечает С. В. Белов, «все, даже краткие, описания Северной столицы в «Преступлении и наказании» всегда имеют особый, часто неуловимый на первый взгляд смысл»[27 - Белов С. В. Вокруг Достоевского: Статьи, находки и встречи за тридцать пять лет. – СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2001. – С. 208.]. О том, что это не простой пейзаж, а самостоятельный образ с глубоким символическим значением, говорит процесс работы над романом. Первая редакция: «Есть в нём (в пейзаже. – О. С.) одно свойство, которое всё уничтожает, всё мертвит, всё обращает в нуль, и это свойство – полнейшая холодность и мертвенность этого вида. Совершенно необъяснимым холодом веет от него. Духом немоты и молчания, дух «немой и глухой» разлит во всей этой панораме. Я не умею выразиться, но тут даже и не мертвенность, потому что мертво только то, что было живо…» [7; 39–40]. Вторая редакция: «Необъяснимым холодом веяло на меня от [этого вида] этой великолепной картины [духом немоты и какого-то отрицания]. Дух немой и глухой разлит в этой панораме» [7; 125]. Г. К. Щенников раскрывает символическое значение этого образа, говоря: «Сравните определение сатаны в Евангелии: «Дух немый и глухий»…"[28 - Щенников Г. К. Целостность Достоевского. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – С. 216.]: Действительно, в Евангелии от Марка читаем: «Иисус <…> запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой!» (Мк. 9:25). Это означает, что настоящим господином Петербурга и «автором» идей, наполнивших его атмосферу, является сатана (дьявол).
Главным (и одновременно – центральным) героем романа является Родион Романович Раскольников. Наиболее яркая, бросающаяся в глаза черта его личности – раздвоенность, расколотость сознания и, как следствие, слов и поступков: «Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую» [6; 147]. Разумихин замечает: «Точно в нём два противоположные характера поочередно сменяются» [6; 165] и т. д. Причину этого явления исследователи объясняли по-разному: Г. К. Щенников видел её в «личном несоответствии утверждённому Богом вселенскому ладу», порождающему «страшную раздвоенность человека, в душе которого уживаются идеалы Мадонны и Содома»[29 - Щенников Г. К. Целостность Достоевского… – С. 202.]. А В. Эмрих считал, что «художественные антиномии <…> являются одновременно антиномиями самого общества»[30 - Emrich W. Das Problem der Symbolinterpretation. Werkinterpretation. – Darmstadt, 1967. – S. 196], а потому и нецельность личности главного героя связана с объективной расколотостью общественного сознания.
Мы полагаем, что причина всего происшедшего с Раскольниковым кроется в особенностях его личности. Несмотря на то что в письме к Каткову Достоевский характеризует своего героя как «одного из нового поколения», уже первые подходы к созданию его образа показали намерение автора изобразить не «одного из многих», а исключительного, необыкновенного человека, способного с максимальной полнотой выразить идею автора. Поэтому Раскольников наделён многими достоинствами, бесспорность которых признают не только близкие (мать, сестра, Разумихин), но и посторонние люди (товарищи по университету, Соня, Порфирий Петрович и т. д.). Необыкновенность Раскольникова связана с особо острой восприимчивостью им несовершенства мира и полубессознательным ощущением призванности к какому-то великому делу. На мессианские черты сознания героя обращали внимание многие исследователи. Р. В. Комина замечает, что «Раскольников <…> всецело охвачен предощущением своей исключительной судьбы»[31 - Комина Р. В. Текстуальный анализ романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (первый сон Раскольникова). – Пермь, 1980. – С. 4.].
В романе мессианизм личности главного героя особо ярко подчёркнут словами Порфирия Петровича: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль Бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. <…> Ещё Бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас Бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то (курсив наш. – О. С.) струсили. Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь» [6; 351]; «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» [6; 352].
Объективный мессианизм личности Раскольникова отражается и в его сознании. Это проявляется в его реакции на упрёки окружающих в жестокости и бездушии, вызванные непониманием его поступков и слов: он не ссорится с ними, не обижается и даже не сердится на них, «точно времени у него на такие пустяки не хватает». Характерно, что эти сцены всегда заканчиваются не просто миром, а ещё большей уверенностью близких в исключительности Раскольникова [6; 172, 326, 338]. Она имеет эсхатологическую природу и связана с надеждой, что именно Раскольников каким-то лишь ему одному известным способом раз и навсегда прекратит несправедливость существующего порядка вещей и укажет путь к счастливой жизни, к Новому Иерусалиму.
Наконец, Раскольников никогда не прибегает ко лжи, потому что чувствует, что это недостойно необыкновенного человека, призванного к великому подвигу. Объясняя мотив своего преступления Соне, он скажет: «Я лгать не хотел в этом даже себе!» [6; 322]. Он действительно может жить, обходясь без лжи, тогда как «обыкновенные» люди без неё обойтись не в силах. Эту мысль впоследствии ярко выразит герой рассказа «Бобок» (1873): «На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы…» [21; 52]. Даже Разумихин оправдывает ложь благородными целями: «Враньё всегда простить можно; враньё дело милое, потому что к правде ведёт» [6; 105]. Ради этих же целей кривят душой мать и сестра Раскольникова, что вызывает у него неудержимый приступ гнева [6; 212]. И только Порфирий, «познав Раскольникова», во время их последнего разговора не прибегает к «психологии», а предлагает поговорить «прямо», понимая, что этим достигнет своих целей кратчайшим путём.
Мессианизм личности Раскольникова ищет выражения в предметной деятельности. В поисках её герой приезжает в Петербург, однако цели, достойной масштабов его дарований и притязаний, Раскольников не находит. При этом он остро сознаёт несовершенство окружающего мира и невозможность его исправить: «Лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я всё-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья… <…>. А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне всё-таки не удалось бы успокоить её, а сестра… ну, с сестрой могло бы ещё и хуже случиться!..» [6; 319]. А кроме матери и сестры, ещё девочка на бульваре, сломанный жизнью Мармеладов, Соня, больная Катерина Ивановна и её голодные дети и много других: «Бедные, кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?..» [6; 212].
Раскольников чувствует в себе силы исправить этот мир, но не знает, как. Поэтому, указывает В. Я. Кирпотин, он «мечтает не только о наполеоновской власти, но и о миссии искупителя, спасителя, о предначертании Мессии»[32 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 192.]. Действительно, власть над «дрожащей тварью» и «всем муравейником» нужна Раскольникову лишь как средство осуществления своего предназначения, которое он видит в служении людям: «Я сам хотел добра людям…» [6; 400], «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил!..» [6; 401].
Герой ищет средства освобождения людей от страдания, горя и гибели, но не находит их: «А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? <…> Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? <…> Чем ты их убережёшь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий?» [6; 38]. Последние слова указывают на важнейшую черту личности главного героя, уже присвоившего себе право по своему усмотрению «располагать» чужими судьбами. Эта черта – гордость. По словам Ю. Н. Давыдова, «она-то и была истинным источником «теоретического раздражения» сердца, то есть софистически-казуистического помрачения совести, и всех тех «идей» – страстей, что возникли в результате этого в сознании Раскольникова, включая и фоновую «идею» – переживание «утраты высшей правды»»[33 - Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. – М.: Молодая гвардия, 1982. – С. 138.]. Эта мысль соответствует замыслу Достоевского, в котором гордость должна была стать главной чертой личности героя: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество»[34 - Первоначально далее следовало: «…чтобы делать ему добро» [7; 155].]. Эта запись, сделанная в момент идейного синтеза, следует через страницу после определения внутренней идеи романа («Православное воззрение…») и является продолжением предыдущей разработки основной идеи образа главного героя: первая редакция – «нестерпимая гордость» [7; 89]; вторая – «демонская, полная, бесконечная» [7; 132, 138, 139]; третья – «бесовская, непомерная» [7; 147, 155].
Соединение в одной личности «демонской» гордости и благородных побуждений и стало причиной той раздвоенности, расколотости, которая явилась наиболее заметной чертой образа Раскольникова. Подчеркнём, что в православной онтопоэтике Достоевского понятие «гордость» имеет однозначно отрицательное значение, о чём говорят эпитеты в приведённых выше примерах. Православие считает гордость (гордыню) главной страстью, ведущей человека к гибели и управляющей другими страстями. Именно она стала причиной падения великого и могучего ангела Денницы, возомнившего себя равным Богу, низвергнутого за это в ад (Ис. 14:12) и ставшего сатаной. После этого всеми его действиями руководила ненависть к Богу, но так как навредить Ему сатана не может, он стремится разрушить творение Бога и его лучшую часть – человека, ибо «он был человекоубийца от начала…» (Ин. 8:44). Православная экзегетика считает этот сюжет символом падения любого человека, подчинившего свою волю и разум страсти гордыни[35 - В романе эту мысль выражает Свидригайлов: «Разум-то ведь страсти служит…» [6; 215].].
Гордость выражается в неспособности человека признать существование где-либо чего-либо более великого, чем его собственное «я». В своём развитии она приводит к отрицанию Бога и утверждению на Его месте человека. Гордость связана и с невозможностью признать собственное несовершенство, зато она стремится к исправлению несовершенства других людей и окружающего мира. В этом она опирается не на голос совести, выражающий присутствие образа Божия в человеке, а на разум, обманывая его иллюзией всемогущества. Поэтому Раскольников, который «по примеру всей молодёжи» [6; 263] ценит разум превыше всего, даже сознавая неправду своей «теории», всё равно заставляет себя верить в неё.
Конфликт между сердцем и разумом осложняется тем, что сердце никогда не лжёт, тогда как разум способен и обманывать, и обманываться. Поэтому сколько бы ни совершенствовался и ни изощрялся разум, он не способен уничтожить совесть до конца. В результате между ними возникает борьба, внешним отражением которой и является «странное» поведение Раскольникова. Стремясь построить свою жизнь на «разумных началах», в реальной жизни он, как правило, подчиняется сердцу, являющемуся в гуманистической этике Достоевского основным способом познания жизни человеком: «Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем…» [28, 1; 209]. Так и его герой все свои добрые поступки совершает по первому сердечному импульсу: помогает Мармеладовым и девочке на бульваре, спасает сестру от Лужина, защищает Соню и т. д. И уже только потом разум начинает инсинуировать: «Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь…» [6; 174]; «Тут у них Соня есть, а мне самому надо» [6; 25]; «Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?» [6; 42] и пр. Эти неоднократные переходы от сердечной к рассудочной жизни подчёркнуты Достоевским внезапными сменами душевных состояний Раскольникова (от радостного прилива жизненных сил до мрачной угрюмости и подавленности) и его внешне немотивированными, а порой и явно противоречивыми поступками. Долго переносить такое состояние человек не может, и Раскольников решает разом прекратить эту внутреннюю борьбу, приняв позицию одной из сторон. Впоследствии он так скажет об этом Соне: «Я… я захотел осмелиться и убил… я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина! <…> Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!..» [6; 321–322]. Уже из этих слов ясно, что он выбрал сторону горделивого разума, а не живой совести.
Однако преступлению предшествовала искренняя попытка героя найти иной путь. Подчиняясь «нравственному чувству», он уходит из города, бросается на землю и обращается с мольбой к Богу: «Господи! <…> покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!» [6; 50]. Это обращение к Богу является мобилизацией всех остатков жизни в душе, задавленной гордыней и верой во всемогущество разума. Но гордыня воспрепятствовала Раскольникову понять волю Бога, открытую во сне «о лошади», в котором был зримо показан как собственный путь Раскольникова (защита всех униженных и оскорблённых), так и то, что итогом развития страсти гордыни обязательно станет бессмысленное, жестокое и кровавое преступление. Но Раскольников не понимает и не принимает откровения Божия, а лишь требует: «Покажи мне путь мой…». О причине этой духовной слепоты догадывается Соня: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!» [6; 321]. Раскольников действительно отошёл от Бога, не видя проявлений Его воли в окружающем мире, полном торжества лужиных и неискуплённого страдания «вечных Сонечек». Поэтому он «решил осмелиться» стать богом и установить в мире справедливость, но использовал для этого те средства, которые предложил ему сатана[36 - Эта попытка Раскольникова самому стать богом («Я захотел осмелиться…» [6; 321]) предваряет принцип Кириллова («Бесы»): «Если нет Бога, то я – бог» [10; 470] и выбор Великого инквизитора: «Мы давно уже с ним…» [14; 234].].
С того момента, как Раскольников позволил мысли о допустимости «одного злодейства ради тысячи добрых дел» стать частью своей души, он попал под власть сатаны и «всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно» [6; 52]. Происходящее подействовало на него «почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с не естественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в неё втягивать» [6; 58]. Эта сила привела его на Сенную, куда «ему было совсем лишнее идти» [6; 50], и подвела к разговаривающей Лизавете. Она же дважды уводила дворника из дворницкой. И именно благодаря ей в ворота старухиного дома «въехал <…> огромный воз сена, совершенно заслонявший его всё время, как он проходил подворотню…» [6; 60]. Именно она оставила открытой дверь, через которую вошла Лизавета, а после увела от неё Коха и выгнала красильщиков из подъезда на улицу, а затем помогла уничтожить улики и спрятать похищенное. Раскольников догадывался, кто именно помог ему осуществить задуманное: «Не рассудок, так бес!» [6; 60]. Но только совершив преступление, он до конца понял происшедшее: «Это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? <…> …Я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил» [6; 321]; «Чёрт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить…»; «Старушонку эту чёрт убил, а не я…» [6; 322] и т. д.
Достоевский не снимает со своего героя ответственности за происшедшее. В духе православной антропологии он исключает из мотива преступления Раскольникова фатализм, сохранявшийся вплоть до последней редакции романа («Я – кирпич, который упал старухе на голову, я – леса, которые над ней обвалились» [7; 128]). Теперь яснее звучит мотив свободного выбора героя: «Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно!
Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился» [6; 320]. Достоевский подчёркивает истинный мотив героя: «Проходить мимо всех этих ужасов, страданий и несчастий хладнокровно не могу» [7; 181]. Он движим любовью: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого!» [6; 401]. Видя несовершенство мира и чувствуя своё мессианское предназначение («Зачем Ты мне дал силы?» [7; 133]), Раскольников ищет средство изменить этот мир, но сатана уловляет его, предлагая в качестве такого средства власть: «Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь…» [6; 174].
Раскольников оказывается в ситуации, некогда преодолённой Христом[37 - См.: Мф. 4:1–11.], Которого искушал сатана в пустыне: мысли Твои праведны и чисты, Ты хочешь добра людям, так стань для них властелином и делай им добро. Чтобы делать его, надо власть иметь, и не важно, что эту власть дам Тебе я, ведь цели Твои добры. Люди слабы и немощны, они не в силах сами найти своё счастье, и только Ты – великий и могучий, взяв над ними власть, можешь сделать их счастливыми. Их счастье в малом – обрати камни в хлебы и накорми их.
Выбор Христа определён любовью к людям и верой в безграничную мудрость и благость Отца Небесного: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. <…> Не искушай Господа Бога твоего. <…> Отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»» (Мф. 4:4, 7, 10). А у Раскольникова вместо этого – абстрактная любовь к человечеству и слабая вера, подавленная «непомерной гордостью». Поэтому он делает выбор, о котором позже Великий инквизитор скажет Христу: «Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков» [14; 234]. Однако Раскольников, хотя и поддался искушению и преступил закон Божий, но, в отличие от Великого инквизитора, дальше не пошёл, «на этой стороне остался» [6; 211], ужаснувшись содеянному и увидев, что дальнейшие шаги на этом пути неизбежно приведут к смерти.
Раскольникова задержало, но не остановило в падении несоответствие цели и результата. Достоевский записывает в рабочей тетради вариант его ответа на призыв Сони исполнить главную заповедь Христа (Мф. 22: 39): «Соне. Возлюби! Да разве я не люблю, коль такой ужас решился взять на себя? Что чужая-то кровь, а не своя? Да разве б не отдал я всю мою кровь? если б надо? <…> Перед Богом, меня видящим, и перед моей совестью, здесь сам с собой говоря, говорю: я бы отдал!» [7; 195]. В окончательном тексте романа эта идея жертвы собой ради других приобрела более скрытый (в том числе и для самого Раскольникова) характер. Так, прощаясь с сестрой, но внутренне словно отвечая на призыв Сони, Раскольников вдруг обнаруживает главную причину содеянного им: «Я сам хотел добра людям…» [6; 400]; «О, если б я <…> никого никогда не любил! Не было бы всего этого!» [6; 401]. Движимый любовью к людям и ощущая в себе могучие силы, Раскольников решает исправить несовершенство мира. Но любовь к людям, соединившись с гордыней, приносит окружающим лишь страдания, и топор, поднятый им против зла, сокрушает образ Божий, хранимый душой каждого человека.
Полагаем, что в образе главного героя выразилась одна из основных мыслей христианской антропологии Достоевского, входящая в его главную идею: зло в человеке и в окружающем его мире возникает как результат сознательного нарушения человеком установленного Богом миропорядка, стремления противопоставить Его воле свою собственную. Само это желание уже является преступлением против Бога и влечёт за собой неминуемое наказание, которое тем сильнее, чем более тяжкое преступление совершил человек. Достоевский показывает, что тяжесть содеянного обусловливается масштабом человеческой личности, способностями и талантами, которые она получила от Бога, ибо «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Писатель предостерегает, что эту «даром полученную над собой силу» нужно ещё оправдать непрерывным подвигом нравственного совершенствования, без которого она неминуемо превращается в гордыню, способную разрушить не только самого человека, но и окружающий его мир. А процесс совершенствования подразумевает наличие идеала, представление о котором невозможно без ясного осознания человеком своих недостатков, – то есть смирения. Однако Достоевский, называя смирение «самой страшной силой» [14; 289], всегда подчёркивал, что эта сила может принести благо, лишь соединившись с исполнением заповедей Божиих, главная из которых есть любовь к Богу и ближнему. Писатель уверен, что знание этого главного закона человеческой жизни имманентно каждой человеческой душе, а исполнение его зависит лишь от свободной воли человека. Высший гуманизм Достоевского состоит в его уверенности в том, что осуществить этот свободный нравственный выбор может абсолютно любой человек. Он должен сам встать на путь, ведущий к Свету, и тогда на этом пути он обязательно получит Его благодатную помощь. Эту помощь Достоевский в письме к Каткову представил в виде синергийного взаимодействия «Божией правды» и «земного закона».
Последовательность этих сил указывает на их иерархию в онтопоэтике писателя. Об этом говорит и то, что «Божия правда», несомненно, ближе к содержанию внутренней идеи романа («Православное воззрение»), чем «земной закон». О том же свидетельствует и весь процесс создания романа. Один из вариантов жизни преступника после убийства Достоевский представлял так: «Ободриться совершенно, погрузиться в занятия, работать <…>. Прожить без людей. Умереть гордо, заплатив горой добра и пользы за мелочное и смешное преступление юности» [7; 90][38 - В окончательном варианте нечто подобное «пропишет» своему пациенту доктор Зосимов: «Вам без занятий оставаться нельзя, а потому труд и твёрдо поставленная перед собою цель <…> очень бы могли вам помочь» [6; 171].]. Однако такая жизнь немногим будет отличаться от смерти, а Достоевский ищет для своего героя путь к жизни. Он пишет далее: «Развитие любви к дочери Мармеладова сбивает его с толку» [7; 90], то есть с логической уверенности в непогрешимости своей «теории». Так, уже в первой редакции романа образу Сони Мармеладовой предписывается главная роль в деле возрождения героя к жизни. Характерно, что эта идея оставалась неизменной до самого завершения работы над романом, тогда как её образ-выразитель претерпел значительные изменения, связанные с поисками адекватной ему формы, а потому длительное время оставался бесплотным (не было портрета и сколько-нибудь конкретных психологических черт).
Первоначально мысль Достоевского была направлена не столько на то, кто будет выражать идею любви, сколько на то, как она будет выражена. Уже в черновиках первой редакции романа он записывает: «(NB) О любви нет между ними ни слова. Это sine qua non»[39 - Непременно (лат.).] [7; 88]. Несколько позже, во второй редакции: «Ни слова о любви» [7; 138]. Здесь речь идёт ещё об отношениях Раскольникова с молодой девушкой Сясей, дочерью Лизаветы, образ которой будет постепенно вытеснен образом Сони Мармеладовой и в конце концов заменит его полностью. Писатель ставит перед собой задачу показать любовь, не говоря о ней прямо, а только указывая на её присутствие.
В результате все внешние проявления любви (Раскольников целует ногу Соне; она держит его за руки, склоняет голову на грудь и пр.) лишены какой-либо плотскости. Этим писатель подчёркивает не-земную природу любви и её главное предназначение – рождение жизни. Будучи источником всякой жизни, любовь оберегает и воскрешает её и является главным условием возрождения падшего человека. Эта идейная функция образа Сони окончательно формируется во второй редакции романа: «Соня и любовь к ней сломали» [7; 135]; «Спор у него с Мармеладовой. Та говорит: покайтесь. Перспективы новой жизни и любви ему показывает. (Ни слова о любви.) Тот предаёт себя наконец, побеждённый. Жизнь кончилась с одной стороны, начинается с другой» [7; 138].