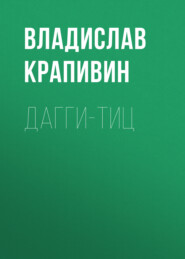скачать книгу бесплатно
Дагги-тиц
Владислав Петрович Крапивин
Сборник новых произведений классика русской фантастики и лауреата множества литературных премий, тюменского автора Владислава Крапивина, приурочен к семидесятилетию писателя.
Книга эта, по словам автора, – «серьезная и порой даже грустная, про одиночество детей. Про взрослых, которым наплевать на детей. И про других – которым не наплевать. И про то, что настоящая дружба – и ребят, и взрослых – часто бывает спасением и защитой от многих бед».
Владислав Крапивин
ДАГГИ-ТИЦ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СМОК
Ходики
Муха любила кататься на маятнике…
Маятник был совсем легкий – жестяной кружок на спице. Но муха, видимо, и вовсе ничего не весила. На ход часов она никак не влияла. С мухой или без нее маятник отщелкивал время с одинаковой бодрой равномерностью.
Качался маятник под обшарпанными ходиками. Такие простенькие часы висели раньше в деревенских избах или небогатых комнатах городских жителей. А нынче ходики считали минуты и дни в комнате, где жил Инки.
Инки нашел ходики среди рухляди за мусорными контейнерами.
Сперва-то Инки не обратил на них внимания. Лишь краем глаза, на ходу, зацепил циферблат с лишаями ржавчины и деревянную коробочку корпуса. Потом… он задержался. Стоял слякотный апрельский день. Все вокруг было сырым – тропинка на задворках, заборы, небо. И часики, конечно. Инки вернулся. Ходики лежали, ненужные всем на свете и обреченные. Было в них похожее на то, что гнездилось в душе у Инки.
Инки принес ходики домой. Они пахли сырой жестью и плесенью. Инки оттер их, вычистил, разобрал. Выпрямил стрелки и стерженек маятника, распутал ржавую, но не порванную цепочку…
За этим делом его застала Марьяна.
– Ты почему не в школе?
– Горло болит, – наполовину правду сказал третьеклассник Инки. Горло у него болело часто, и сейчас застарелый тонзиллит снова осторожно скребся в гландах.
– Ну-ка покажи. Открой рот… Так и есть. Что за наказанье… Сейчас согрею молоко.
– И так не помру…
– Не рассуждай. Мать позвонит, что я ей скажу?
Инки пожал плечами.
Марьяна была давняя подруга матери („мы дружим с до-исторической эпохи…“). Когда мать оказывалась в отлучке (а в последние полтора года она не раз уезжала надолго и неизвестно куда), Марьяна поселялась в ее комнате – присматривать за жильем и за Инки. Марьяну такой вариант устраивал. Своей квартиры у нее не было, только „угол“ в общежитии, которое „даже не общежитие, а притон для всяких дегенератов“…
Марьяна работала в салоне красоты „Орхидея“. Салон отличался от простой парикмахерской только громадными зеркалами и тем, что там с посетителей драли тройную плату. Марьяна сама так говорила. Она смотрела на жизнь со скучной досадой, потому что жизнь эта ей не удалась. Видимо, так же, как Инкиной матери…
Инки, чтобы не унижаться до спора, сглотал теплое молоко и продолжил возню с часами. В механизме он разобрался быстро. Чего там разбираться-то! Всего несколько медных колесиков, которые цеплялись друг за дружку и поворачивали стрелки, когда надетая на зубчатый барабан цепочка тянула главную шестерню. А цепочку должна была тянуть гиря. Гири не было. Инки снова сходил к помойке, отыскал там мятое ведерко (синее, с цветочком), залепил скотчем дырку. Набрал на детской площадке мокрого песка. Ведерко и стало гирей.
Инки повесил ходики слева от окна – так, что они были видны над торчащими коленками, когда Инки лежал на своей узкой, как вагонная полка, тахте. Часы принялись послушно тикать, едва он толкнул маятник. И пошли, пошли (до чего хорошие, ласковые даже!). Правда, сперва они то отставали, то спешили, но Инки в течение нескольких дней регулировал ход: добавлял или убавлял в ведерке песочный балласт. И наконец ходики стали показывать часы и минуты так, будто принимали радиосигнал точного времени.
Лицевая сторона ходиков была из помятой пятнистой жести с остатками облезлого рисунка над циферблатом. Инки, как мог, выправил и очистил ее. На место прежнего рисунка приклеил картинку-липучку с лесным домиком, в котором светилось оранжевое окошко. Кто жил в домике, он пока не знал, решил, что придумает после…
Когда молчаливый Инки возился с часами, Марьяна несколько раз лезла с разговорами:
– Зачем ты притащил в дом эту заразу?
Инки наконец не выдержал:
– Сама зараза… Не вздумай их трогать.
– Бессовестный. Я в три раза тебя взрослее. А ты со мной, как с девчонкой на дворе…
– Не лезь, вот и не буду как с девчонкой…
– Как же „не лезь“, когда на этом утиле миллион микробов…
Они там, в своей „Орхидее“, все были помешанные на борьбе за стерильность.
– Ты их тут считала, микробов-то? – буркнул Инки.
– Вот схватишь какую-нибудь инфекцию, куда я тебя дену?
– На Хабаровскую, конечно, – сообщил Инки (на Хабаровской улице была всем известная городская больница). – Или прямо на кладбище…
– Тьфу на тебя. Чтоб ты язык прикусил…
Марьяна была рыхловатая, с пухлым лицом и в общем-то беззлобная. Инки она особенно не донимала, в дела его влезала нечасто. Кормила его, мазала зеленкой ссадины, иногда говорила (так, для порядка), чтобы садился за уроки, стирала его бельишко и порой непонятно вздыхала, поглядывая издалека (Инки чувствовал это затылком). Правда, вначале, когда поселилась в их доме впервые, Марьяна вздумала было воспитывать Инки. Он, сумрачный и усталый, вернулся после позднего бродяжничества около полуночи – с травяным сором в перепутанных темных космах и синяками на тощих икрах. Марьяна глянула сурово:
– Где болтался до такого времени? Я уж думала, пропал насовсем! Погляди на себя, бомж подзаборный, а не ребенок…
Это были скучные, стертые слова. Инки пальцами (немытыми!) брал с тарелки и отправлял в рот холодный винегрет. Марьяна уперла в бока кулаки с колечками на пухлых пальцах.
– Выбирай! Или я звоню матери и спрашиваю, что с тобой делать, или выдеру тебя сама!..
Может быть, она по правде думала, что сумеет это.
Инки придвинул белевший на кухонной клеенке валик для раскатки теста. Сказал без выражения:
– Только подойди…
– Бессовестный! Я… звоню прямо сейчас!
– Звони, звони. Все равно у нее мобильник всегда отключен.
– Ну и… тогда я расскажу про все, как только она сама позвонит!
– Вот страшно-то… А я расскажу, что у тебя ночует твой Вик.
Вик (то есть Викторин Холкин, шофер с товарной базы) был давний знакомый Марьяны. Он тоже обитал в общежитии, только в своем, для мужиков. Где им с Марьяной найти крышу на двоих? Ну и вот… Покладистый, толстогубый и белобрысый Вик относился к Инки хорошо, тот ничего против него не имел. Но сейчас Марьяна, как говорится, достала Инки…
– Свинья ты! – плаксиво завопила она. – Что ты такое врешь! Он вовсе даже… он просто засиделся до утра, потому что мы… ночью пили чай и говорили про кино. Про сериалы…
– Ага. А кровать скрипела, будто на ней три медведя…
– Как у тебя язык-то поворачивается! – Марьяна в два раза усилила плаксивость.
Инки пожалел ее.
– А я чего. Я и говорю: сидите там рядышком, спорите о всяких „Бригадах“ и „Сантах-Барбарах“, друг друга локтями пихаете, а кровать-то вся ржавая, бабушкина еще. Можно бы и потише…
– Бессовестный, – опять сказала Марьяна. Уже примирительно. – Руки бы помыл. Все в заразе…
Инки вытер пальцы о замызганные бриджи. Винегрета на тарелке все равно уже не было…
После этого Марьяна никогда не лезла к Инки с воспитательными беседами, а он делал вид, что не замечает ночных посещений Вика. Вик бывал все чаще. Порой казалось даже, что он живет в квартире Гусевых (это фамилия Инки и матери) больше, чем в своем шоферском общежитии. Ну и ладно. Инки от этого была даже польза. Вик добыл где-то старенький компьютер, притащил его к Марьяне, и они часто сидели вдвоем перед монитором – по уши влезали в нехитрые компьютерные игры (хитрые такой музейный агрегат „не тянул“).
Вик показал Инки, как запускать эти игры, и тот на какое-то время увлекся. Особенно нравилась ему игра „Конкистадоры“. Про завоевание Южной Америки. Инки и раньше кое-что знал про такое завоевание, видел серию передач по телику и сочувствовал беднягам индейцам, которые не могли, конечно, устоять против закованных в железо испанцев… В компьютере индейцам тоже доставалось крепко, но все же игру можно было повернуть так, что иногда мексиканские и перуанские племена одерживали победу. Тем более что индейцам сочувствовал честный и храбрый адмирал (единственный хороший человек среди конкистадоров). „Альмиранте“ Хосе Мария Алонсо де Кастаньеда…
Но скоро компьютерные игрушки наскучили. От экранного мерцания щипало под веками, а между левым виском и глазом начинал вздрагивать под кожей тревожный пульс. Этот кровеносный сосудик обязательно оживал, если подкрадывалась какая-нибудь хворь, ожидались неприятности или хотелось плакать. Сдерживать слезы Инки научился уже давно, а усмирять беспокойную жилку до сих пор не умел. Только прижимал к ней палец (и старался делать это незаметно)…
Потом Вик унес компьютер. Объяснил, что „машина“ не его, а приятеля, который потребовал ее „взад“. Марьяна огорчалась, а Инки только сказал с зевком: „Ну и фиг с ним“. Он и без всякой электроники мог выстраивать в голове игры не хуже компьютерных. Если было настроение.
Правда, настроение было не всегда. Порой вместо него приходило серое равнодушие – такое, как в то утро, когда Инки нашел ходики.
Откуда она бралась, эта бесцветная скука? Инки не знал. Можно было, конечно, найти разные причины, если начать копаться. В тот раз причиной мог оказаться очередной отъезд матери. Но… Инки ведь давно привык к таким отъездам, к такой „жизни всегда“. К тому, что он один. Чего тут унывать, непонятно…
Находка развеяла Инкину грусть. В нем, как и в ходиках, зашевелились, ожили бодрые шестеренки. Он теперь подолгу лежал на своей твердой койке и смотрел, как ходит туда-сюда маятник. И слушал, как щелкает в деревянном ящичке медный механизм.
Тот даже не щелкал, а выговаривал: „Дагги-тиц… дагги-тиц…“ Каждое „дагги-тиц“ совпадало с одним качанием маятника туда-обратно. Слово было непонятное, но… хорошее такое, будто ходики говорили его вопреки всему скучному и вредному, что было на свете.
Недаром в те вечера стали снова появляться под потолком Сим и Желька…
Давно еще, когда был второклассником, Инки натянул над постелью, под самым потолком, леску. К ней он подвешивал на скользких петельках пластмассовые самолетики. Если самолетик тянули за нитку, тот скользил по леске от окна до двери – словно появлялся из далеких краев и летел в другие далекие края…
Потом игра надоела (а самолетики рассыпались), но леска осталась. И вот однажды, когда в окно гусевской квартиры на втором этаже светил осенний фонарь, Инки подумал, что на леске могут появиться канатоходцы.
И они появились.
Это были мальчик и девочка ростом с шариковую ручку. В красных цирковых костюмах – вроде колготок и узких футболок. На мальчике, кроме того, были пышные, как у старинного пажа, шортики, а на девочке похожая на раскрытый зонтик юбочка. А еще – белые кружевные воротники, закрывающие плечи. Волосы у них были длинные, светлые, легкие, иногда они разлетались от быстрых движений.
Эти малютки-канатоходцы казались очень похожими друг на друга (скорее всего, близнецы). Если бы не различия в костюмах, Инки бы и не смог отличить их друг от дружки. Но это сперва. А скоро Инки уже понимал, что они разные по характерам. Сим вел себя смелее девочки и относился к ней со снисходительной терпеливостью. А Желька – она ласковая, чуть-чуть капризная и пугливая (но пугалась она не риска на канате, а всяких мелочей: пролетит у плеча искорка-звезда, а Желька смешно ойкает и приседает).
Почти каждый вечер Сим и Желька (эти имена придумались у Инки легко и сразу) появлялись из набрякших в углу сумерек и устраивали представление. Даже если за окном не горел фонарь, крохотные артисты были хорошо видны – словно светились сами. Они ловко бегали по тугой леске, прыгали друг через друга, кувыркались, танцевали, ухватившись за руки, словно под ними была не капроновая струна, а площадка. Взлетали друг дружке на плечи и раскидывали руки, будто ласточкины крылья…
Инки смотрел на них, не замечая времени. Ему нравились даже не столько цирковые номера ловких артистов, сколько другое – какие они, Сим и Желька. Славные и так привязанные друг к другу. Оно и понятно, раз брат и сестра.
Они были добрые. Вон как старались, чтобы Инки поменьше грустил. Столько сил тратили ради него одного!..
Хотя не всегда только ради него. Порой Инки забывал, что он в своей постели, и видел, будто капроновая леска протянута сквозь межзвездное пространство. Сим с Желькой танцевали и акробатничали и там. Но теперь упражнения крохотных канатоходцев приобретали особый – очень важный и строгий смысл. Сложный и продуманный ритм движений передавался Вселенной: звездам, галактикам – всему, что называется мирозданием. Он, этот ритм, делал порядок мирового пространства более прочным и в то же время более живым, понятным для жителей всех планет… Впрочем, Инки не мог бы объяснить это словами. Но он чувствовал: так надо… И то, что Сим и Желька выступают теперь не ради него одного, а ради всего-всего мира, ничуть не огорчало Инки. Потому что и ради него тоже. Это как бы связывало Инки со Вселенной, и от такого чувства слегка замирала душа…
Он, Инки, нравился Симу и Жельке, это не вызывало сомнений. Жаль только, что он не мог оказаться совсем рядом с ними, на леске. Там был хотя и близкий, но все же иной мир…
Потом Сим и Желька перестали появляться. Может, потому, что отправились на гастроли в иные области мирового простора. А может, потому, что вернулась из очередной поездки Инкина мать. Она приехала не одна, а с высоким лысоватым дядей по имени Дмитрий Дмитриевич („можешь звать меня дядей Митей, я теперь буду жить с вами“). Совместная жизнь оказалась недолгой. „Сволочи они, нынешние мужики“, – утомленно высказывалась мать. Это Марьяне. А Инки говорила: „Кешенька, не будь таким, когда скоро вырастешь…“ При этом крепко целовала его в щеку или подбородок мокрыми губами. Инки сперва каменел, потом изворачивался и шел в совмещенный санузел оттирать с лица помаду.
Имя Кешенька он не терпел. Скоро вырастать не собирался (понимал уже, что это не дает никаких преимуществ, одни лишние хлопоты). О том, что „мужики – они сволочи“, он слышал неоднократно. Но были, наверно, и другие, хорошие. Недаром то и дело мать срывалась в очередную поездку (иногда в командировку от какой-нибудь работы, иногда в непонятно какой по счету отпуск), в надежде, что улыбнется же когда-нибудь счастье.
– Да не за счастьем она ездит, а просто у нее такая цыганская натура… – говорила Марьяна, снова занявши место в двухкомнатной квартирке Гусевых. Не Инки говорила, конечно, а Вику или какой-нибудь заглянувшей в гости подружке. Но Инки это слышал.
В матери и правда было немало цыганского – темные глаза и волосы, большие круглые серьги, яркие юбки и кофты. Хитроватая плавность разговоров и порывистость, с которой она иногда принималась обнимать-целовать Инки (он старался терпеть, но выдерживал не всегда). Материнская „цыганистость“ в чем-то сказалась и на Инки: темный, растрепанный, худой. Любящий бродить в незнакомых местах и с непонятной целью. Только цыгане бродят табором, а он – в одиночку.
А еще – неулыбчивый. Может быть, это досталось от отца? Но какой он был, отец, Инки не ведал. И мать не могла ничего толком сказать, хотя ничего и не скрывала. „Кешенька, так получилось. В Ялте. Совершенно случайная встреча. Я была такая глупая… Даже фамилию его не знаю, а звали Сережей. Говорил, что поедем вместе к нему в Рязань, а уехал один… Все они такие…“
Вот и оказалось, что все наследство Инки по мужской линии – одно только отчество. В метрике написано: „Иннокентий Сергеевич“. Ну и ладно. Инки знал, что от папаш толку никакого. У пацанов из его класса отцы были один похлеще другого: водка да ремень. После родительских собраний мальчишки боялись идти домой, а потом, перед уроками физкультуры, стеснялись раздеваться… Инки-то не боялся: дома его сроду никто не трогал пальцем. В школе, на улице бывало всякое, но это другое дело…
Ну вот, мать, очередной раз исцеловав „Кешеньку“, отправлялась в новую поездку, а Инки оставался с Марьяной. И со своей свободой. Школу он прогуливал не так уж часто, но ходить туда не любил: ни радостей, ни приятелей там не было… Пришла весна, однако была она сырая и пасмурная, тоже радости никакой. Радость возникла, когда нашлись и заговорили на стене ходики.
„Дагги-тиц… Дагги-тиц…“ Это веселое слово позвало из дальних краев Сима и Жельку. Они опять стали появляться у Инки, хотя и не так часто, как прежде.
А потом появилась муха. Но это случилось уже в конце лета…
Как его звали…
В тот августовский день после затяжных дождей вернулось прочное тепло. Инки снова влез в летнюю одежку – потрепанную, зато легкую – и целый день гулял по окраинам, искал улицу Строительный Вал. Не нашел, конечно, однако не очень огорчился, потому что все равно вокруг было лето, была зелень и горячее солнце. Оно снова, как в конце мая, крепко нажарило Инкину кожу. Поздно вечером он лежал поверх толстого ненужного одеяла и отдавал солнечный жар окружающему пространству. Ждал, не появятся ли Сим и Желька. Канатоходцев не было, но вдруг села на леску муха.
Инки хорошо видел ее. За окнами было еще светло, а кроме того, из прихожей светила сквозь приоткрытую дверь лампочка – Марьяна всегда забывала выключать ее. Муха в этом свете прошлась взад-вперед по леске (которая даже не вздрогнула) и притихла.
Откуда она появилась? Ясно, что не из форточки – та была открыта, но затянута марлей от комаров. Влетела с улицы через подъезд и лестничную клетку? Но ведь дверь квартиры заперта и щелок в ней нет…
Муха посидела и снова прошлась туда-обратно. Она занималась тем же, что Сим и Желька, „канатоходством“, поэтому Инки ощутил к ней что-то вроде симпатии.
Муха была маленькая, серая, словно крохотный кусочек сумерек, таившихся в дальнем углу. Почти незаметная. Лишь когда попадала под лампочный свет, на крылышке ее загоралась микроскопическая искорка. Мигнет и пропадет. Муха еще раз прогулялась по леске, потом снялась и долетела до ходиков. Села на маятник. Инки напрягся, ожидая, что ходики собьют ход. Ничего, однако, не случилось. Как и раньше: „Дагги-тиц…“
„Ладно, тогда качайся“, – мысленно сказал Инки. Со снисходительной усмешкой. Он лежал навзничь, согнутые колени смотрели в потолок, а локти в стороны. Потому что ладони прятались под затылком. Это была любимая Инкина поза. А раз любимая, значит, и настроение не самое плохое. С этим не самым плохим настроением Инки и смотрел на маятник и муху.
Она была ничуть не противная. Не в пример тяжелым помойным мухам, которые иногда залетали в дом, отвратительно зудели в воздухе и со шмяканьем ударялись о стекла. Скромная такая мушка…
Она покачалась под часами несколько минут, потом сделала бесшумный круг и вернулась на маятник. „Нравится, значит“, – сказал ей (опять же мысленно) Инки. И представил себя на месте мухи. Будто он – невесомый, как лоскуток серого воздуха, – пристроился на краю громадного диска, который ходит в пространстве среди звезд. „Дагги-тиц, дагги-тиц…“
Возможно, муха уловила Инкино понимание. Она стартовала с маятника, полетала над мальчишкой, села ему на левую коленку. Прочная кожа колена не ощутила мушиных лапок. Но муха тихонько пошла по ноге, как с горки, к Инкиному животу, и тогда он почувствовал чуть заметное щекотанье.
Инки усмехнулся. Он был живой, и муха – живая. И ничуть не вредная. И этот контакт двух живых существ, которые не хотели друг дружке ничего плохого, показался Инки вполне понятным. Как это говорят? А! „За-ко-но-мерным“…
„Привет, – сказал он мухе. – Я Инки. А ты?“
Она замерла – наверно, обдумывала вопрос. Потом опять улетела и села на маятник. И ходики (которым эта гостья, видимо, была по душе) произнесли особенно четко: „Дагги-тиц“. Словно подарили мухе имя.
„Вот и хорошо. Значит, будешь Дагги-Тиц“, – согласился Инки.
Муха была, кажется, довольна. И своим именем, и маятником, на котором катайся сколько хочешь. И она качалась, качалась на нем. А у Инки стали слипаться глаза.
И он увидел Строительный Вал.