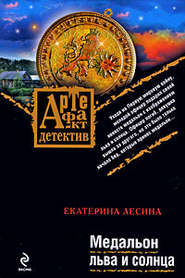скачать книгу бесплатно
Медальон льва и солнца
Екатерина Лесина
Артефакт-детектив
Отправляясь в пансионат «Колдовские сны», обещавший постояльцам тишину и покой, Берта надеялась ненадолго отрешиться от забот и проблем. Внешне жизнь в пансионате вполне соответствовала рекламе, ведь от постояльцев тщательно скрывали, что его владелица недавно погибла странной смертью… А вскоре произошло еще одно преступление – убили чудную художницу, с которой Берта едва успела подружиться. Что же здесь происходит под ширмой благоденствия и комфорта? Возможно, не последнюю роль в этой истории сыграл старинный медальон с изображением льва, держащего в лапах солнце, – кто-то подбросил его в сумочку Берты…
Екатерина Лесина
Медальон льва и солнца
Я снова видел тебя во сне. Держал за руку, говорил глупости, уже и сам не помню, что именно, но ты смеялась, радостно, светло, и я сам с трудом сдерживал смех. Я был счастлив. А проснулся – все растаяло. Предутренний дым, волглый туман, запах сырой, разрытой земли – красная осклизлая глина вперемешку со стеблями травы, похожими на колтуны, – и плесени, и немытых тел, и крови, и гноя. Раненых много, мертвых тоже, но я никогда не напишу тебе об этом, а о чем другом писать, и не знаю.
Этот мир – он существует сам по себе; иногда я начинаю вспоминать, что же было прежде, до того, как я попал на фронт, и вот ведь странность: помню все – людей, события, но они как бы ненастоящие, выдуманные, пришедшие откуда-то издалека. Будто где-то, быть может, на краю мира, имеется другая страна. Там нет войн, нет горя, нет красно-черной земляной утробы, которая с одинаковой жадностью поглощает и зерно, и людей, и снаряды.
Снова не о том, не выходит рассказывать.
Давай лучше напишу о придуманной стране, тебе понравится, ты любишь сказки. И шоколад любишь бельгийский из магазинчика, что рядом с твоим домом. Помнишь? А то, как мы гуляли – ты была такая серьезная, надменная даже? Французская шляпка, шелковые перчатки… А мне к руке прикоснуться хочется, ты же рассказываешь о… опять забыл, с памятью странно получается, точно ее крадет кто.
Утро исчезает, туман осел, расползся по земле ледяной росой, значит, скоро уже. И то сегодня долго тишина стояла, а то бывает, что и ночью ни минуты покоя, стреляют и стреляют… страшно.
Мне не стыдно признаться в страхе, как не стыдно просить – все равно не решусь отправить письмо, а значит, можно сказать все.
Жди меня, милая моя, драгоценная. Умоляю. Жди, не забывай, обереги своей любовью, отведи смерть, подари надежду. И я вернусь, во что бы то ни стало.
Прости, что снова оставил тебя без письма. Сегодня же исправлюсь, обещаю… сегодня же, вечером, я напишу тебе о той стране, где лев оберегает солнце, а солнце согревает льва своим теплом. Твой медальон оттуда, и твоя любовь, и вера моя в то, что мы обязательно будем вместе.
Твой Лев.
Ромашковые солнышки на тонких стебельках дрожат лепестками, покачиваются, переливаются бело-желтым, душистым морем, которое, послушное ветру, то несется вперед, к самой границе леса, то замирает, то откатывается назад.
– Бася! Бася, ты где?! – Тетка остановилась на меже. – Бася! Иди домой!
Не пойду. Не хочу, мне здесь хорошо. Бело-желтые ромашки согласно закивали, а синяя звездочка василька скользнула по щеке. Щекотно. А тетка все не уходит, вглядывается в травяное море, выискивая, выглядывая, набираясь раздражением – даже отсюда его ощущаю, оно пахнет навозом и скользкой, темной колодой, на которой дядька Степан колет дрова и рубит курам головы.
– Баська! Ну погоди ж ты! – Тетка погрозила кулаком и ушла, я же, закрыв глаза, начала мечтать, как однажды уеду в мою страну. И пусть тетка говорит, что такой страны не существует, что я – врушка и бездельница. Я не хочу верить. Тетка глупая и ничего не понимает.
– Не понимает, – зашелестел ветер, подгоняя ромашковые волны к лесу-берегу.
– Не понимает, – прожужжал шмель, скатившись с цветка.
– Да, да, да, не понимает, – прошептали цветы.
На самом деле они не разговаривают, я понимаю, что цветы говорить не могут, и шмели, и ветер, я не сумасшедшая, мне просто нравится придумывать. Я придумала целую страну, особую, такую, в которой все счастливы. Разве это сложно – быть счастливым?
По-моему, нет. Особенно когда лежишь, а над тобою небо, яркое-яркое, и облака, как зефирины из коробки – бело-розоватые, пышные, нарядные. Тетка покупает зефир по праздникам – на Новый год, на Восьмое марта и еще на мой или Валькин день рождения, и тогда я тоже счастлива, почти как сейчас.
А солнце на яичный желток похоже. Дядька Степан яичницу любит – он говорит «уважает», но мне странно: как можно уважать еду? Но смотреть, как он ест, интересно. Складывает блин вчетверо, потом протыкает тонкую беловатую пленку, прикрывающую желток, солит и только после этого, когда тягучее содержимое почти уже расползается по сковородке, мешаясь с жиром, начинает собирать его блином.
От мыслей в животе заурчало, есть захотелось. Домой идти? Тетка ругать станет… а не идти, так все равно станет.
В моей стране никто никогда никого не ругает. Там все счастливы.
– Горе ты мое! – Тетка только вздохнула и вытерла полотенцем руки, красные, распаренные и похожие на распухшие куриные лапы. Но про это говорить нельзя – тетка обидится. – Ну? Где шлялась? Опять на поле?
Киваю, не люблю обманывать, да и незачем, ведь знает же. У тетки блеклые глаза, совсем как засушенные васильки, и светлые реснички – прошлогодняя хвоя. И волосы, желто-белые, из ромашковых нитей выпряденные. Мне хочется думать именно так.
Сегодня на ней синее платье с мелкими полустершимися от частых стирок цветочками и длинный, в пол, фартук с двумя карманами. На левом пуговка оторвалась, а в правый иголка воткнута и белой ниточкой перевязана, чтоб не потерялась. Красная косынка, надвинутая по самые брови, завязана на затылке крупным узлом, и как-то жалко тетку – наверное, узел жмет, давит, вызывает головную боль.
Ненавижу, когда болит голова.
– И что из тебя вырастет-то, а? – Она наливает миску супа, плюхает сверху белый ком сметаны (тоже на облако похож, только тяжелый) и, поставив на стол, говорит: – Ешь давай, и за уроки.
– Спасибо! – Осторожно размешиваю сметану: зеленый суп раскрашивается белыми крупинками, будто снег падает, а длинные космы щавеля – это…
– Ешь, а не балуйся! Опять? – Тетка хмурится и отворачивается. – Вот ведь… придумщица.
Жаль, есть снежный суп интереснее, чем просто щи, тем более кислые и вчерашние. Зато хлеб мягкий, свежий и пахнет хорошо. Вдруг захотелось сказать что-то такое, особенное, чтобы тетка перестала хмуриться и улыбнулась, хотя бы раз в жизни улыбнулась, а еще лучше, чтоб счастливой стала, хоть на секундочку.
В моей стране все должны быть счастливы!
– Тетечка, миленькая! – Я обнимаю, утыкаюсь лицом в грязный, пахнущий кислым молоком и вареной картошкой фартук. – Я тебя так люблю! Очень-очень!
Ну вот, почему она плачет-то?
Вечером, лежа в кровати – Валька сопит, расставила локти, раскинулась, оттесняя меня к самому краю, еще чуть-чуть, и на пол свалюсь, и спать страшно, а вдруг-таки и свалюсь, поэтому и не сплю, слушаю. Голоса в темноте шуршат, как мыши, но мышей Мурча гоняет, а голоса – никто.
– Степ, ну чего? Ну дите ж, ну совсем же… – Это тетка, она близко, за шторкою, шторка белая в синие и красные астры, которые ночью видятся черными пятнами-дырами, и тянет потрогать: а вдруг и вправду дыра. Тогда что на другой стороне? Может, моя страна?
– Степ, ну еще годик… она ж тихая.
Дядька бурчит что-то в ответ, а что, не разобрать. И не хочу. Дядьку Степана побаиваюсь, он не злой, но… другой какой-то, рядом с ним мои мысли о стране вдруг становятся глупыми, и цветы просто цветами, и солнце перестает быть похожим на яичный желток. Или яичный желток на солнце.
– Степ, ну родная ж кровь… подумай.
– Дочка у тебя родная, сама подумай, – неожиданно зло отвечает дядька. А Валька, застонав во сне, переворачивается на другой бок, больно ткнув локтем под бок. – В хате и сейчас не развернуться…
Наступает тишина, мне вдруг становится страшно, а дядька громко, нормально, не боясь разбудить, добавляет:
– Квартиру-то дали уже, чай, не заберут…
Квартира? Да, тетка говорила, что скоро переедем жить в город, он близко уже, на другом берегу реки строят серо-желтые скучные дома. Вот глупость, зачем уезжать? Здесь ведь хорошо, и ромашковое поле есть… ветер катит волны до леса и назад.
Мягкие-мягкие лепестки гладят щеки, губы, щекочут нос… смешные. В моей стране будет много ромашек и совсем не будет скучных домов.
Семен
Русалочьи волосы, длинные, соломенно-золотистые, чуть отливали зеленью. Это из-за водорослей, которые тонкими нитями обвили пряди, скользнули на лицо, полупризрачной сетью осев на бледной коже. Закрытые глаза с неестественно длинными светлыми ресницами, от которых по щекам тянулись длинные полоски-тени. Они двигались, то становясь короче, будто испугавшись солнечных зайчиков, снующих у самой поверхности воды, то, наоборот, удлиняясь, почти касаясь неестественно ярких, будто фломастером нарисованных губ.
– Красивая… – Венька присел у самой кромки воды. Рифленая подошва ботинок промяла песок, и к берегу посыпалась тонкая струйка, прямо на ее пальцы. Ручка-то из воды выходит, уцепилась за коряжину, будто женщина-русалка выбраться желает.
– И как живая, поди ж ты, – Венька с опаскою потрогал руку и тут же ладонь о штаны вытер. – Холодная.
Ну ясное дело, что холодная. И мертвая. Не может живой человек вот так лежать себе спокойненько под водою и не дышать. Синяя стрекоза на миг присела на сочный стебель тростника, замерла, только крылья подрагивали и в крупных фасеточных глазах отражались сразу и облака, и вода, и девушка, и сам Семен тоже, этаким размытым желто-бурым пятном. Стрекоза взлетела, стебель качнулся, и по воде пошла легкая рябь, от которой показалось, что лицо девушки скривилось от обиды.
– Убийство, похоже.
– Почему? Может, сама? – спорил Семен только потому, что уж больно не хотелось верить в убийство, ну не вязалось это слово со спокойной, даже заупокойной красотой утопленницы. Но прав Венька, скорее всего, что…
– Ага, сама. Сама голая пришла, сама нырнула, да так, что и не вынырнула. Тут же глубины-то метра полтора, вон, дно как на ладони.
Желто-коричневое, зебрастое, с редкими черными пятнами беззубок, белыми – камней, зелеными – водорослей. У ног женщины суетилась стайка мальков, то тычась в пальцы, то рассыпаясь серебряными искорками, чтобы вернуться.
– Самой в такой луже потонуть – это уметь надо. Или желание иметь огромное, а к нему – камушек на шее, килограммов этак на полтораста, чтоб, когда желания вместе с воздухом в легких поубавится, наружу не вынырнуть. А значит, что? Нашла бы способ попроще. Да и с одеждой вопросец… куда одежда подевалась?
Семен не знал. Он про одежду как-то и не подумал, уж больно гармоничной в солнечно-водяном антураже была нагота, почти целомудренной.
Вытягивать надо. А не хочется. Не потому, что противно, наоборот, брезгливость появится позже, когда тело на берегу окажется, желтые с зеленоватым отливом волосы облепят кожу грязными прядями и солнечные зайчики вместе с иллюзией жизни окажутся в воде.
– Ну что, пусть Звярский тут разберется, а мы пошли местных поспрошаем. – Венька, поднявшись по склону, оглянулся. И Семен тоже, потому как не оглянуться было невозможно, чудилось, что женщина смотрит прямо в спину.
Речка, зажатая с двух берегов зеленой щетиной тростника, в которой то тут, то там проплешинами выдавались в берег узкие песчаные косы, блестела на солнце. Носились в воздухе стрекозы – мелкие, юркие вертолетики и тяжелые, гудящие коромысла, стрекотали кузнечики, облачками живой пыли висела мошкара. А девушки отсюда не видно.
Вот и хорошо, вот и ладно, а то ж…
– Чертовщина какая-то, – заметил Венька, вытирая пот. И Семен мысленно согласился: и вправду чертовщина. Ну не может смерть красивою быть, а тут… и как будто живая.
– Да ведьмой, ведьмой она была, – поспешно заявила Нина Сергеевна, подымаясь с ведра, которое она использовала вместо стула. – Ох ты, боже ж ты мой, страх-то, страх…
Она широко перекрестилась куском хозяйственного мыла, который крепко сжимала в руке. Кусок был серый, треснувший и смыленный с одного краю, а в ведре, насколько удалось разглядеть Семену, белыми жгутами лежало мокрое белье.
– Рассказывайте, – строго велел Венька. – По порядку и подробно.
– Ну… значит, с утра я стирать-то думала. Точней, вчерась еще думала, и замочила, и порошочком, порошочком, но выполоскать-то надо, – залопотала Нина Сергеевна, опасливо оглядываясь на Семена. Ну да, не Веньки ж ей опасаться, он хоть и говорит строго, но с виду щуплый, невысокий – невидный, как Машка говорит. А Семен, значит, наоборот, видный, с его-то двумя метрами роста и почти центнером весу.
Семен вздохнул и шею потер – чесалась, падла. От жары, от пота, от того, что, верно, успела уже обгореть.
– Ну, а там, значит, мостки, полоскать удобно. – Старуха увидела мыло в руке, вздрогнула, опять перекрестилась и сунула кусок в карман грязного серого фартука. – На палку нацепил и в воду сунул, туда-сюда помотал, и чистое.
– И что дальше? – Венька строго глянул, но не на свидетельницу, а на Семена. Злится, что ли? Или снова намекает? Ну, пора б усвоить, что не понимал Семен намеков, хоть убей, толстокожий оттого что – это тоже если Машке верить, ну а как ей не верить, когда она Семена как облупленного знает. Сестра как-никак.
– А дальше… – Личико Нины Сергеевны вытянулось, даже как будто морщины разгладились. – А дальше она… вот вам крест, лежит себе, пялится из-под воды! И улыбается, улыбается!
– Кто?
– Да ведьма эта!
Ведьму звали Людмилой Константиновной Калягиной, и была она двадцати пяти – а Семен был готов присягнуть, что ей не больше восемнадцати, – лет от роду, незамужней и бездетной. То ли первое являлось следствием второго, то ли совсем наоборот, однако факт, что родных и близких, таких, которые могли бы рассказать о Людмиле, в деревне не нашлось.
– Так мать ее приблуда, и сама она, значит, нагулянная. – Нина Сергеевна шла, тяжело переваливаясь с боку на бок, горбясь влево, видать, под весом наполненного бельем ведра. И при каждом шаге охала. Или ахала. Или крестилась, правда, теперь щепотью, как полагается, а хозяйственное мыло прямоугольником выделялось в кармане. – Мамка ж ейная к нам уже с дитем приехала, говорила, что мужик погибши. А Манька, которая почтальонка, она с паспортисткою районной в подружках ходила, та и сказала, что, значит, никакого мужика и не было. Паспорт-то чистый…
Венька кивал в такт шагам и словам, и Нина Сергеевна, ободренная вниманием, начинала говорить быстрее.
– Так она-то свидетельство о рожденье видела и говорила, что там заместо отца прочерк. Значится, врала, врала Берта…
– Берта? – переспросил Венька и, остановившись, пот вытер. – Нина Сергеевна, вам не тяжко? Может, помочь?
– Тяжко, ой, тяжко. Спину крутит, застудила, видать. – Свидетельница осторожненько поставила ведро на землю и ногою подперла, видать, опасаясь, что опрокинется, покатится вниз по склону, разбрасывая мятые пережеванные руками простыни да наволочки. – И в боку колет, вот тут…
Она хлопнула по круглому боку и хитро глянула на Семена.
– Мамку ее Бертою звали, не по-нашенски. И была она из себя вся ну прям городская, платье понаденет, клипсы прищепит и ходит павою, нос от людей воротит…
Семен подхватил ведро, до деревни всего-то десятка два метров. Крайний дом утонул в кустах белой и лиловой венгерской сирени, над свечами соцветий с громким жужжанием кружили пчелы, а в тени, свернувшись калачиком, дремала бело-черно-рыжая кошка.
– Сюда, сюда давайте… вот беда, теперь с колодцу таскать придется, а как таскать, когда спина болит? – Старуха ловко откинула петельку из белой бечевки и потянула на себя просевшую калитку. Вошла, шуганув рыжую курицу, и, указав на лавку, велела: – Сюды поставь, пусть нагреется.
Семен примостил ведро на низкой широкой лавке. Мутноватые, крохотные окошки дома, расчерченные тонкими планочками фанеры, отливали серебром. Белая вата, сунутая между рамами, поблескивала стеклянной крошкой и черными трупиками дохлых мух.
– Вот и говорю, что дура баба была, ей бы за ум взяться-то. – Нина Сергеевна села на лавку, поправила красную с белыми цветами косынку и, вытянув ноги в красно-белых же байковых тапочках, заговорила: – Подумаешь, дитё, оно, конечно, кому надо, чтоб женка гулящая, но ведь собою-то хороша, страсть как хороша, могла б и замуж выйти, вон Ванька за ней ухлестывал. А она со старухою связалась, та и ей жизню попортила, и девке ейной… сама, значится, ведьмой была, а как померла, Берте знания передала, а та уже дочке своей…
Кошка, приоткрыв глаза, лениво потянулась, царапнув коготками желтое солнечное пятно.
– Значит, Берта тоже умерла? – Присев на корточки, Венька погладил кошку, та сердито дернула хвостом, мяукнула, но не ушла.
– Померла, видит бог, померла! И не по-доброму! Три дня в горячке билася, тогда-то и поняли, что и вправду ведьма. Душа-то темная, на небо дорожки не видит, в ад ее черти когтями тянут, а она, бедолажная, за тело держится, мученья доставляет. Вот и крутит ведьм и ведьмаков болью, пока кто из милости не поможет!
Венька отвернулся, пряча улыбку.
– А ты не смейся, не смейся! – Бабка хлопнула ладонями по скамейке, да так, что ведро едва не слетело. – Умный, значит, выученный! А ты походи, поспрашивай – ведьмою Берта была, тут тебе каждый скажет и крестом перекрестится. И помирала она от этого долгохонько, а перед смертью силу свою дочке отдала! Та знатною стервозою числилась.
Кошка, шлепнув хвостом по земле, поднялась, потянулась, скребнув мягким белым брюхом по зеленой траве. Потом выгнулась дугою, зашипела, но не зло, лениво. Венька все одно убрал руку, поднялся, отряхнув ладони, и примирительно спросил:
– И в чем эта сила заключалась?
– А в том, что не человек она, – Нина Сергеевна шикнула на кошку. – До мамкиной смерти небось страшная ходила, прям не дитё, а ирод какой, ну а как Берта преставилась, спаси Господь грешную душу ее, так Людка и похорошела.
– Сразу?
– Да вот те крест! – старуха снова перекрестилась. – И вот глядишь на нее, ничего ж особенного нету, худлявая, длиннющая, кости сквозь шкуру просвечивают, одно, что волосы белые, длинные, до сраки самой, а так-то не девка – вобла сушеная. В мать пошла, та тож благая была, а вот мужиков к ней тянуло. Это оттого, что слово заветное знала.
– Берта или Людмила?
– Обе, – решительно заявила Нина Сергеевна. И, прикусив красный, окаймленный реденькими ресничками бахромы хвост платка, пробормотала: – Но кто ж ее… вот беда…
Кошка плюхнулась на спину, потянулась, мазнув лапами в воздухе, зевнула, демонстрируя красную, точь-в-точь как платок, пасть и белые капельки зубов.
Ведьма, значит. Ведьм Семену пока встречать не доводилось. Наверное, к счастью.
– Да вы к Таньке сходите, к Петрушовой, – встрепенулась старуха. – Они с Милкою со школы подружками сердешными! Если чего кто и знает, то Танька… только вы ее крепко поприжмите, шалаву. Пригрозите хорошенько, она все выложит!