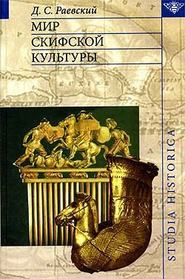скачать книгу бесплатно
Мир скифской культуры
Дмитрий Сергеевич Раевский
На основе изучения изобразительных памятников и сюжетов скифского фольклора, сохраненных античными авторами, в работе исследуются представления о мироздании, присущие скифским племенам Северного Причерноморья I тысячелетия до н.э. В результате мировосприятие скифов реконструируется как живая и целостная система.
В томе представлены две главные монографии автора – «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985) – с авторскими редакционными поправками.
Книга предназначена как для специалистов в области скифской и античной культуры, археологии и мифологии, так и для широкого читателя, интересующегося прошлым России и научными методами его воссоздания.
В оформлении переплета использовано: на первом плане – скифский ритон в виде лошади из кургана у хутора Уляп (IV в. до н.э.), на втором плане – гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.).
Дмитрий Раевский
Мир скифской культуры
Предисловие
В. Я. Петрухин, М. Н. Погребова
Скифский мир и скифский миф
В предлагаемом читателю томе избранных работ Д. С. Раевского (1941 – 2004), выдающегося отечественного археолога, историка и культуролога, помещены тексты двух книг по истории скифской культуры: «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985). Эти книги, ставшие событием в отечественной и мировой науке, вызвавшие живой отклик ведущих культурологов – Жоржа Дюмезиля, Брюса Линкольна, Ивана Маразова и др., давно превратились в библиографическую редкость. Между тем историческая актуальность этих книг в нынешней ситуации возрастает, ибо актуальным остается обращение к истокам, к пониманию «предыстории» отечества и культурных ценностей, оставшихся от этого предысторического периода.
Культура скифского мира в самом широком смысле не была для Раевского «внешним» объектом «музейного» любования: автор «Модели мира скифской культуры» стремится раскрыть внутренние механизмы ее функционирования. В этом стремлении у Раевского есть самый знаменитый «соавтор» – отец истории Геродот. Для греческого историка интерес к варварскому миру означал преодоление известного античного стереотипа: ведь для Геродота деяния варваров были не менее достойны памяти потомков, чем деяния эллинов. Потребность в понимании «иной» варварской культуры воплощала «прорыв» во всемирную историю: мировосприятие переставало быть эгоцентричным, и понимание «иных» народов позволяло уяснить реальное место собственного народа во всеобщей истории.
«История» Геродота и, благодаря ей, скифская история стали восприниматься в преднаучную позднесредневековую эпоху историографии и в «романтический» период развития исторической науки как «предыстория» восточных славян: «эгоцентричный» взгляд (во многом не преодоленный до сих пор) усматривал в скифах прямых предков восточных славян (равно как в кельтах, сарматах, фракийцах и иллирийцах – предков славян на Балканах и в Центральной Европе). Можно заметить, что тот же «эгоцентричный» взгляд, подпитанный, во многом, рационалистскими и позитивистскими тенденциями в науке нового времени, был свойствен традиционному подходу к скифской культуре. Так, сцены на драгоценных сосудах, изготовленных по заказу скифских царей греческими мастерами, были абсолютно «понятны» для этого взгляда и получили наименование «сцен скифского быта», так как передавали, казалось бы, обычные занятия скифов – скотоводство, натягивание тетивы лука, помощь раненому товарищу и т. п. Вопрос о том, почему эти жанровые сцены изображались на драгоценных сосудах и других предметах царского «быта», помещенных отнюдь не в «бытовой», а в ритуальный контекст монументальных усыпальниц – царских курганов, казался не относящимся к содержанию самих «сцен».
Столь же «очевидными» по значению казались и мотивы скифского звериного стиля: правда, здесь предполагался «магический» перенос свойств животного на «носителя» звериных изображений – быстрота бегущего оленя, сила терзающего хищника и т. п. Подобный подход к проблеме содержания «звериного стиля» напоминает детские вопросы Красной Шапочки переодетому Волку.
Проблемы содержания скифской культуры были по-новому поставлены в работах Д. С. Раевского. Наметить их решение можно лишь в том случае, если не рассматривать изолированно отдельные мотивы и сюжеты, а подходить к памятникам скифской культуры, будь то сложное ритуальное сооружение, звериный стиль или «скифский рассказ» Геродота (передающий самоописание скифов) [1 - Д. С. Раевский задумал книгу о Геродотовой Скифии, которую предполагал озаглавить цитатой из Геродота – «Так говорили сами скифы», но этот и многие другие замыслы ему не довелось осуществить Среди неосуществленного нельзя не вспомнить предполагавшийся коллективный труд по сравнительно-историческому анализу разновременных «варварских» обществ «Скифы, фракийцы и Русь» (в нем предполагалось участие ближайших сотрудников Д С Раевского – болгарского фраколога И. Маразова и русиста В. Петрухина)], как к разным «кодам» единой культурной системы, имеющей единый смысл. Без этого единого смысла не только сами скифы не могли бы понять друг друга: их не поняли бы и эллины – ни Геродот, ни греческие мастера, выполнявшие заказы скифских царей. Этот смысл был явлен скифам (как и всяким носителям архаической культуры) в мифологии, которую и восстанавливает в своих работах Раевский [2 - См, в частности, из последних книг Raevskiy D. Scythian mythology Sofia 1993]. Археология перестает быть немой, она обретает язык в его работах.
Реконструкция «скифского мифа» имеет отнюдь не праздный интерес для современной культуры. Потребность в этом понимании именно «иного», которое не воспринималось бы как «чужое» и «чуждое», а, значит, ненужное и даже враждебное, как никогда актуальна для этой культуры. Отсюда – интерес европейской культуры XX в. к «третьему миру» и архаическому мифу, во многом сменивший традиционный с эпохи Возрождения интерес к античности: этот интерес был явлен и объяснен одним из пророков современной европейской культуры – Клодом Леви-Стросом. Для русской (и шире – восточнославянской) культуры, по словам Д. С. Лихачева, был свойствен интерес к «своей античности» – древней Киевской Руси; специфика этой древнерусской «античности», однако, и заключалась в том, что она была и остается «своей»; отношение к «чужому», «иному» – одна из самых сложных культурных проблем нынешней России. Между тем, у России была «иная» античность – античность в подлинном культурно-историческом смысле этого понятия. Эллины и скифы в Северном Причерноморье дали первый исторический образец понимания «иного» – культурного взаимопонимания, тот образец, который обогатил мировую культуру шедеврами скифского звериного стиля и греческой торевтики. В этом отношении античная эпоха и на юге Восточной Европы дает определенные основания для исторического оптимизма.
Исследования Д. С. Раевского отличает строгая и продуманная методика, что особенно важно, так как при обращении к вопросам семантики древнего искусства авторы нередко дают простор фантазии, приводящий к выводам, часто интересным, но по существу бездоказательным. В работах, посвященных скифской мифологии, Д. С. Раевский широко использовал и общие труды по первобытным религиям и фольклору, и письменные источники, и данные скифской материальной культуры, изученные со всей возможной полнотой. Обращаясь к применению этих разнородных материалов к изучаемому вопросу, автор применял общефилософский принцип соотношения общего, особенного и единичного. Под общим он понимал те общие черты в мифологии разных народов, которые необходимо учитывать, так как они вводят изучаемую культуру в контекст мировых систем, особенное, по его мнению, составляют черты, присущие только группе родственных или типологически близких культур, и наконец единичное объединяет элементы, присущие только изучаемой культуре, составляющие ее специфику. Как показал Д. С. Раевский, только сочетание этих подходов может привести к обоснованным выводам о мифологии бесписьменных народов. Большое внимание в своих исследованиях автор уделил именно особенному, то есть индоиранским корням скифской культуры. Ираноязычность скифов была обоснована многими исследователями, но для понимания специфики скифской культуры этот материал привлекался недостаточно, хотя были и исключения, как, например, работы Е. Е. Кузьминой. Д. С. Раевский подчеркивал то значение, которое имеет общеиранский и даже общеарийский мифологический пласт для реконструкции скифской мифологии. По его вполне обоснованному мнению, «степные иранцы» менее других ираноязычных народов подверглись влиянию инокультурной среды, поэтому именно у них можно ожидать сохранения ряда архаических черт, близких к общеиранским и общеарийским. Отсюда особое внимание, уделяемое автором Ригведе, Авесте и поздним иранским литературным памятникам, сохранившим мотивы раннеиранских мифов. Это позволило ему расшифровать целый ряд образов скифского изобразительного искусства и некоторых сведений античных авторов как элементов скифской мифологии. Опираясь на общеиранское и арийское наследие, автор смог убедительно истолковать в мифологическом ключе такие детали в донесенных античными авторами рассказах о скифах, которые исследователи, как правило, склонны были рассматривать как этнографические мотивы. Так, например, Д. С. Раевский продемонстрировал, что упоминание о плуге в первой генеалогической скифской легенде, рассказанной Геродотом, не может служить указанием на хозяйство племен, в среде которых возникла легенда, так как в данном случае плуг нужно рассматривать как общеиранский священный богоданный атрибут, представление о котором появилось значительно раньше перехода части скифов к кочевому образу жизни. Обращение к иранским литературным памятникам помогло автору объяснить особенности скифской изобразительной традиции в передаче лука сыну отцом, а не матерью, в чем многие исследователи видели вопиющее противоречие рассказу Геродота и соответственно толкованию изображений на сосудах, предложенному Д. С. Раевским. Изучение иранской и индоиранской традиций помогло истолковать значение таких образов скифского изобразительного искусства как водоплавающая птица и заяц, определить значение фигуры Таргитая в скифской модели мира, найти истоки представлений о четырехугольной конфигурации страны скифов, о Гестии / Табити и др.
Человек, широко эрудированный, Дмитрий Сергеевич с глубоким вниманием относился к трудам своих предшественников, учитывал те выводы, которые считал правильными, но в большинстве случаев шел дальше, развивая и продолжая их. Основываясь на обоснованных им особенностях скифской мифологической системы, автор смог достаточно убедительно восстановить и то, что, казалось, было навеки утрачено, а именно элементы скифского повествовательного фольклора. Они извлечены им из описаний Геродотом таких сугубо исторических событий как скифо-персидская война или гибель царя Скила, или из «этнографического» рассказа о процедуре погребения скифских царей. Как отмечал сам автор, работа эта может и должна быть продолжена, но поколениям последующих исследователей указан путь, несомненно приносящий плодотворные результаты.
Подчеркивая значение мифологии как инструмента познания внешнего мира в древности и, в частности в скифском обществе, Д. С. Раевский показал, что ее тщательный анализ позволяет осветить и некоторые аспекты социальной и идеологической идеологии скифов и даже отдельные эпизоды их истории. Так, при решении дискуссионного в настоящее время вопроса о соотношении скифов и киммерийцев, соображения, приведенные Д. С. Раевским, заслуживают, как представляется, самого пристального внимания.
Обращаясь к толкованию скифского изобразительного искусства как одного из источников для воссоздания мифологии автор особое внимание уделил образам животных – скифскому звериному стилю, одной из важнейших составляющих искусства этого народа. Д. С. Раевский исходил из того положения, что отдельно рассматриваемые эти изображения не могут быть источником информации о свойственной их создателям идеологии или, во всяком случае, представляют возможности для обоснования самых разных толкований. Расшифровке семантики памятников звериного стиля, по мнению Д. С. Раевского, должна предшествовать реконструкция мифологии, основанная на других, более внятных источниках, каковая реконструкция и была им блестяще проведена. Но и памятники звериного стиля привлекаются автором не как иллюстрации уже сформулированных положений. Он проводит их тщательное комплексное и независимое изучение, что и позволило обосновать тезис о прямой связи изображений животных в скифском искусстве с мифологической моделью мира у этого народа. Важным выводом из проведенного анализа стало утверждение автора, что изображение животного в скифском искусстве надо рассматривать не как конкретное воплощение того или иного божества, а лишь как его знак. Именно эта знаковая основа звериного стиля, зоологический код, принятый для обозначения достаточно сложных и отвлеченных понятий и составляет, согласно Д. С. Раевскому, сущность скифского звериного стиля. Как в публикуемых книгах, так и в последовавших за ними трудах исследователь специально останавливался на причинах избрания скифами для отображения мифологической картины мира именно зоологического кода, на времени и условиях его формирования. Этот вопрос находится в тесной связи с проблемой происхождения скифского звериного стиля, являющейся сейчас предметом острых дискуссий. Д. С. Раевский был последовательным сторонником гипотезы, согласно которой этот стиль является новообразованием, при создании которого использовались некоторые мотивы переднеазиатского искусства, но при полном их переосмыслении в контексте собственной мифологии и стилистической переработке. Зарождение звериного стиля относится, в соответствии с указанной гипотезой, к периоду переднеазиатских походов скифов, когда социальная эволюция скифского общества вызвала потребность в системе знаков для выражения мифологической картины мира, важнейшей для этого общества. В то же время Д. С. Раевский отмечал и значение тотемизма как гносеологической основы формирующегося скифского искусства.
В последние годы жизни Д. С. Раевский выдвинул новую и чрезвычайно интересную гипотезу о формировании стилистических особенностей изображений животных скифскими мастерами как о результате применения к изобразительному искусству приемов поэтики, ранее наработанных арийским миром в вербальном творчестве. Обоснование этой гипотезы изложено в опубликованных еще при жизни автора статьях и в готовящейся к печати коллективной монографии, посвященной значению общеарийского наследия в изучении культуры скифов. Вообще работам Д. С. Раевского в высшей степени присуще сочетание нового неожиданного взгляда на знакомые всем памятники тщательного, всестороннего их изучения.
Конечно, проблемами скифской мифологии занимались и занимаются многие исследователи. Среди современных авторов в первую очередь надо отметить труды Е. Е. Кузьминой [3 - Напр.: Кузьмина Е. Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев, М, 2002], Э. А. Грантовского и Г. М. Бонгард-Левина, С. С. Бессоновой, разработавших ряд чрезвычайно интересных проблем. Однако, как уже отмечалось, именно Д. С. Раевскому удалось восстановить целостную и непротиворечивую систему идеологических представлений скифов, в которую органично укладываются данные разнообразных и разноприродных источников, скрупулезно изученных им. Объединенные в данной монографии книги не только не потеряли своего значения, но остаются важнейшими трудами как по собственно скифской мифологии, так и по методике изучения идеологических представлений народов древности.
Два издания выдержало подготовленное Д. С. Раевским (совместно с В. Я. Петрухиным) пособие для студентов: «Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье» (М., 1998, 2004).
Литература о Д. С. Раевском
1 МИФ 7 на акад Дмитри Сергеевич Раевски София, 2001 (вступительные статьи В. Петрухина, М. Погребовой, И. Маразова)
2 Вестник древней Истории 2004 № 4 С 227
3 Российская археология 2004 № 4 С 187
4 «Восток» / Orient 2004 5 С 211 – 215
5 Ирано-Славика 2004 №3 – 4 С 82 – 86
Очерки идеологии скифо-сакских племен
Опыт реконструкции скифской мифологии
Как прекрасно, когда открывается единство целого комплекса явлений, которые при непосредственном восприятии кажутся совершенно независимыми друг от друга
Альберт Эйнштейн
Введение [4 - Публикуется по: Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен: Опыт реконструкции скифской мифологии. М.: Наука; Гл. ред. вост. лит., 1977.]
Степной пояс Евразии в I тысячелетии до н. э. населяли, как известно, различные кочевые и оседлые племена, в материальной культуре которых прослеживается значительное сходство. В специальной литературе они фигурируют под условным названием: народы – носители культур «скифского типа». Письменные источники сохранили этнонимы некоторых из них, достаточно определенно локализуемые на карте: это скифы Северного Причерноморья, савроматы-сарматы низовий Дона, Волги и Урала, сако-массагетские племена Средней Азии. Древние наименования других народов этого региона точно не установлены, почему они и имеют в литературе условные археологические обозначения. Это носители тагарской культуры в Южной Сибири, пазырыкской на Алтае, тасмолинской в Северном Казахстане и т. д. Археологические исследования последних десятилетий существенно прояснили облик культуры населения степного евразийского пояса, в значительной степени выявили характер и уровень развития его экономики, в ряде случаев позволили установить его генетическую связь с носителями предшествующих культур бронзового века.
Существует, однако, аспект, в котором изучение всех названных народов делает еще самые первые шаги. Речь идет об исследовании свойственных им религиозно-мифологических представлений. Аспект этот весьма важен, так как на ранних этапах истории человечества в мифологии того или иного народа находит, как известно, специфическое отражение вся сумма свойственных этому народу представлений о природе и обществе, в ней проявляется реальное практическое знание о внешнем мире, суммируется свойственное древнему человеку понимание космического и социального порядка, понимание строения мира и своего места в этом мире. По определению К. Маркса, мифология – «бессознательно-художественная переработка природы (здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество)» [Маркс, Введение: 737].
Однако реконструкция мифологического комплекса, свойственного тем народам, основную информацию о которых мы черпаем из археологического материала (а именно к ним принадлежат племена евразийских степей I тысячелетия до н. э.), – задача достаточно сложная. Если при исследовании экономики и этнической истории древних обществ мы имеем дело с непосредственным отражением в материальной культуре объективных исторических процессов, то в данном случае речь идет о реконструкции представлений, о проникновении в духовный мир человека путем изучения материальных остатков его деятельности. Решение этой задачи требует прежде всего отбора специфических источников и особых методов их интерпретации.
В каких же памятниках наиболее полно отразились религиозно-мифологические представления интересующих нас народов? Если оставить в стороне погребальные комплексы, достаточно широко исследованные на всем пространстве степного пояса, но отражающие в основном лишь одну, причем специфическую, сторону этих представлений – заупокойный культ, то наибольшее значение в интересующем нас плане имеют, бесспорно, произведения религиозного искусства. Среди них первое место как по количеству находок, так и по богатству заключенной в них информации занимают памятники так называемого звериного стиля. При наличии определенных локальных различий стиль этот как специфическое художественное и идеологическое явление представлен с большей или меньшей полнотой во всех частях евразийского степного пояса. Однородный характер мотивов и строгая каноничность композиций свидетельствуют об определенном единстве его символического языка по всему ареалу, о строго фиксированном значении каждого мотива, равно как и о его сакральном характере [см.: Артамонов 1968: 45]. Широкое распространение звериного стиля и его неоспоримые художественные достоинства уже в течение многих лет привлекают к нему внимание исследователей. Однако в обширной литературе, ему посвященной, попытки выяснения его семантики и реконструкции стоящих за ним представлений занимают весьма скромное место, уступая первенство проблемам формирования, хронологии, стилистического анализа [5 - Это отразилось, в частности, в программе III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии (Москва, декабрь 1972 г.), специально посвященной звериному стилю евразийских степей. Семантика этого стиля затрагивалась на конференции лишь в нескольких докладах, да и то в незначительной степени.]. В тех же случаях, когда авторы обращаются к интерпретации семантики звериного стиля, предлагаемые толкования весьма существенно разнятся между собой. Не претендуя на сколько-нибудь полное изложение историографии вопроса, приведу несколько примеров, чтобы продемонстрировать диапазон существующих трактовок.
Золтан Такац в статье, помещенной в фундаментальной «Энциклопедии мирового искусства», пишет: «Памятники искусства кочевников имеют магический и тотемистический характер, причем магия связана преимущественно с охотничьей деятельностью» [Takats 1961: 722]. Таким образом, он считает общество евразийских кочевников достаточно примитивным, базирующимся на охотничьем хозяйстве, а свойственную искусству этого общества зооморфную символику связывает исключительно с тотемизмом и промысловой магией.
Иначе трактует семантику звериного стиля (на материале скифских памятников Причерноморья) И. В. Яценко. Она также ограничивает ее преимущественно магическими воззрениями, но связывает их не с охотой, а с военным бытом, т. е. с более высоким социальным уровнем. По ее мнению, «магическое содержание звериного стиля своими корнями связано с древними тотемистическими представлениями» и состоит в том, что «изделия, украшавшие воина и его снаряжение, должны были придавать его обладателю силу, лов-кость, зоркость, т. е. все те качества, которые необходимы воину. Именно поэтому в скифском искусстве воспроизводились в основ-ном хищники, олени, козлы и орлы. В изображении подчеркивалось то, что убивало жертву (лапы, когти, рога, пасти, зубы), и то, что помогало выследить ее (глаза, уши, ноздри)» [Яценко 1971: 131 – 132; см. также: Ельницкий 1960: 54].
Е. Е. Кузьмина также обращает внимание на широкое распространение в скифском зверином стиле изображений не целых фигур животных, а отдельных их частей, но совершенно иначе трактует их смысл. Она видит в этом пережитки парциальной магии и полагает, что по своему значению изображение части животного тождественно изображению всей его фигуры. Сами же зооморфные образы Е. Е. Кузьмина трактует как изображения различных инкарнаций богов, т. е. не ограничивает религиозные представления скифов примитивной магией, а предполагает наличие у них развитого пантеона [Кузьмина 1972: 51 – 52]. Как изображения «зооморфных божеств» рассматривает образы звериного стиля и Н. Л. Членова. По ее мнению, «происхождение их восходит, по-видимому, к тотемам, но в рассматриваемую эпоху они, видимо, давно уже переросли в общеплеменные и межплеменные божества» [Членова 1967: 129]. Р. Гиршман считает, что скифам была свойственна «териоморфная концепция мира» [Ghirshman 1964: 329], но в то же время пишет о «магической или символической функции» образов животных, происхождение которых «связано с тотемами и анимистической идеологией» [там же: 304].
Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, сколь широк диапазон толкований звериного стиля. Различия проявляются как в оценке уровня социально-экономического развития его носителей, так и в понимании значения его образов, в решении вопроса о степени сложности стоящих за ними религиозных представлений. Иными словами, если рассматривать памятники евразийского звериного стиля как определенный текст (в семиотическом значении этого термина), то расхождения между приведенными интерпретациями состоят и в понимании строя языка этого текста, и в приписывании ему различного содержания.
Причина столь существенных расхождений таится прежде всего в различном толковании характера знаков, входящих в знаковую систему звериного стиля. И. В. Яценко, например, в приведенном пассаже рассматривает изображения частей тела животных как знаки функций, присущих этим органам, и соответственно определенных физических свойств. При этом априорно предполагается, что в знаковой системе звериного стиля между предметом, выступающим в роли знака, и стоящим за ним означаемым должно непременно существовать зрительное сходство или реальная природная связь. Из аналогичной посылки исходит Е. Е. Кузьмина, полагая, что изображение части животного является знаком его целого изображения. Между тем такая посылка, хотя и допустима, вовсе не единственно возможна и даже не наиболее вероятна.
Семиотика знает типы знаков, существенно различные с точки зрения их отношения к означаемым предметам или явлениям. Между предметом, выбранным в качестве знака, и стоящим за ним означаемым может наблюдаться фактическое сходство (иконические знаки) или действительно существующая в природе связь (знаки-индексы). Но существует еще категория знаков-символов, лишенных такой реальной связи с означаемым. «Знак-символ является знаком объекта “на основании соглашения”… Связь между чувственно воспринимаемым означающим символа и мысленно постигаемым (переводимым) означаемым этого символа основана на согласованной, заученной, привычной ассоциации» [Якобсон 1972: 83]. Простейшим примером знака-символа может служить любая буква алфавита [6 - «Знак может быть похож на обозначенный им предмет (как, например, египетские иероглифы-пиктограммы слов “солнце”, “человек”), но может быть и совершенно на него непохожим (как, например, буквы Б и В в кириллице, которые не имеют никакого сходства ни с соответствующими фонемами, ни со схемой положения органов речи)» [Нарский 1969: 42].].
В чтении текстов звериного стиля И. В. Яценко или Е. Е. Кузьминой априорно предполагается употребление только знаков одного из двух первых типов, т. е. выбирается один из возможных кодов, причем этот выбор ничем, кроме гипотезы того или иного автора о значении композиций звериного стиля, не мотивирован. На основании произвольно избранного кода ведется затем чтение всего текста, т. е. толкуется смысл зооморфных композиций, реконструируется характер всей стоящей за ними системы представлений и т. д. [7 - Простейший пример применения к одному и тому же тексту различных кодов являет чеховская «реникса» – чтение русского слова «чепуха» на основе латинского алфавита (А. П. Чехов, «Три сестры», акт IV). Здесь текст читается на основе не того кода, который использовался при его составлении, а иного, произвольно выбранного.]
В принципе образы звериного стиля могут, конечно, отражать в корне различные религиозные концепции. Каждая из изложенных выше гипотез реконструирует теоретически мыслимую ситуацию. Слабость этих гипотез состоит не в их заведомой ошибочности, а в произвольности выбора, в том, что они исходят из произвольно избранного кода. Так, изображение того или иного органа животного в характерных для звериного стиля композициях в равной степени может являться знаком функции этого органа (И. В. Яценко), знаком образа самого животного (Е. Е. Кузьмина), но может и означать предмет или понятие, не имеющие ни малейшей связи или сходства с образом, выступающим в роли их знака. В качестве примера последнего понимания зооморфных мотивов можно привести характерное для ведической литературы представление о зооморфной символике космоса, когда различные части тела жертвенного животного и функции его организма символизируют различные части мироздания («Брихадараньяка-упанишада, I, 1») [8 - «Утренняя заря – это поистине голова жертвенного коня, солнце – глаз, ветер – дыхание, рот – огонь Вайшванара, год – туловище жертвенного коня, небо – хребет, воздушное пространство – живот, земля – копыта, страны света – бока, промежуточные страны света – ребра, времена года – члены, месяцы и полумесяцы – суставы, дни и ночи – ноги, звезды – кости, облака – плоть, песок – пища в желудке, реки – жилы, горы – печень и легкие, растения и деревья – волосы, восходящее (солнце) – передняя часть, заходящее – задняя часть» («Брихадараньяка-упанишада», I, 1 – цит. по: [ДФ 1972: 138]).].
Какое из толкований наиболее соответствует представлениям, нашедшим отражение в памятниках евразийского звериного стиля? Мы не сможем ответить на этот вопрос, опираясь в своей интерпретации лишь на сами эти памятники, без привлечения информации, внешней по отношению к исследуемой категории источников [см.: Топольский 1973]. Эта внешняя информация должна, с одной стороны, обосновать историческую правомочность той или иной интерпретации системы представлений, свойственной населению евразийских степей [9 - Привлечение данных об уровне социально-экономического развития населения евразийских степей в интересующую нас эпоху обнаруживает, в частности, неправомочность толкования звериного стиля З. Такацем. Достаточно высокая степень развития производящего хозяйства у этих народов опровергает возможность толкования их религиозных представлений как «связанных преимущественно с охотничьей деятельностью».], а с другой – послужить средством для выяснения кода, которым пользовались создатели памятников звериного стиля. Лишь выяснение этого кода может превратить такие памятники в поддающийся прочтению текст, в источник информации для дальнейшей реконструкции стоящих за ними представлений. Исходным же материалом для такой реконструкции они служить не могут, так как сами нуждаются в предварительном обосновании правомочности того или иного их прочтения. Иными словами, не звериный стиль на данном этапе может служить источником информации о свойственных его носителям представлениях, а реконструкция этих представлений позволит со временем расшифровать семантику его памятников.
Трудность, однако, состоит в том, что историческая ситуация, существовавшая в интересующий нас период в степном поясе, характер имеющихся источников предельно сужают круг данных, которые могут быть использованы для такой реконструкции. Отсутствие у народов этого региона собственной письменности, сочетающееся в большинстве случаев с крайней скудостью сведений о них в иноязычных источниках, редкость в искусстве большинства из них антропоморфных сюжетов, более доступных пониманию, чем зооморфные, – все эти особенности практически сводят на нет информацию о религиозных представлениях степных народов, сопоставимую с памятниками звериного стиля.
В этих условиях особое внимание должно быть обращено на Европейскую Скифию [10 - Необходимо разъяснить употребление в данной работе этнических терминов «скифы» и «саки». Кроме специально оговоренных и обозначенных кавычками случаев, этноним «скифы» я вслед за Б. Н. Граковым и исследователями его школы употребляю для обозначения единых этнически и политически восточно-иранских племен, обитавших в степях Северного Причерноморья между Дунаем и Доном. Такое конкретное значение этого термина следует строго отличать от встречающегося в источниках его расширительного толкования, включающего в число скифов ряд других народов, как родственных населению припонтийских степей, так и иноэтничных, но близких им по культуре и образу жизни [Граков 1947]. Что касается термина «саки», то представляется вполне обоснованным мнение, что он в источниках также употреблялся в двух основных значениях – конкретном этническом и расширительном [Пьянков 1968: 14 – 16]. Однако вопрос о том, какое содержание вкладывалось в этот термин в обоих случаях, еще весьма далек от разрешения. Высказывавшиеся на этот счет мнения, в частности гипотеза И. В. Пьянкова, вызывают серьезные возражения и вступают в противоречие с источниками, о чем придет-ся говорить ниже. В литературе более распространено расширительное толкование этого этнонима, согласно которому в число саков включается население низовий Сырдарьи [Вишневская 1973], Памира [Литвинский 1972], Семиречья [Акишев, Кушаев 1963] и т. д. Именно в таком значении используется этот термин в данной работе, хотя следует оговорить условный его характер. Анализ материала будет в дальнейшем способствовать уточнению конкретного содержания этого этнонима. В том аспекте, который связан с тематикой данной работы, мне предстоит вернуться к этому вопросу ниже (см. с. 176 сл.).]. Будучи неотъемлемой частью евразийского степного пояса и являясь одним из районов, где звериный стиль имел весьма широкое распространение, она в то же время обладала определенной спецификой. На протяжении столетий Скифия жила в теснейшем контакте с миром античных государств Черноморского побережья, вследствие чего жизнь скифов нашла в античных источниках более полное отражение, чем жизнь других народов – носителей культур «скифского типа». Интерес античного мира к аборигенам припонтийских степей отразился в большом количестве исторических, этнографических и географических сведений о Скифии и ее обитателях, сохраненных в произведениях греческой и римской литературы. Разумеется, эти сведения не могут дать полного представления о жизни причерноморских народов. Они предельно фрагментарны, подбор их в значительной степени случаен. Фрагментарность эта усугубляется тем, что большая часть написанного древними авторами о скифах утрачена. Однако при том, что о других обитателях степного пояса мы не имеем и столь кратких сведений, сохранившиеся данные приобретают характер важнейшего исторического источника. Сказанное в полной мере относится и к сведениям о скифской мифологии и религии. Они, естественно, не отражают всей системы религиозно-мифологических представлений, свойственной скифам, но в известной степени приподнимают ту плотную завесу, которой эти представления окружены.
В довольно обширном арсенале «скифских сюжетов» античной литературы можно выделить только два сколько-нибудь развернуто освещенных мифологических мотива. Это, во-первых, сохраненная различными авторами в нескольких вариантах так называемая легенда о происхождении скифов и, во-вторых, данные Геродота о скифском пантеоне. Оба фрагмента неоднократно служили предметом изучения. Однако представляется, что достигнутые в этом направлении результаты могут быть существенно дополнены, особенно если рассматривать названные пассажи в неразрывной связи с данными других источников, о которых речь пойдет ниже. При таком подходе выявляется семантическое единство этих сюжетов с другими, более отрывочными свидетельствами древних авторов, также касающимися скифской мифологии, но вне комплексного анализа представляющими весьма малую информативную ценность. Комплексный подход позволяет выявить в античной традиции о скифах и некоторые дополнительные сведения, которые на первый взгляд имеют характер бытовых или исторических штрихов, но при более внимательном изучении оказываются также связанными с мифологией. Наличие таких мифологических по происхождению, но реальных по внешнему обличию деталей в рассказах античных авторов о Скифии часто недооценивается. Между тем по вполне понятным причинам подобные мотивы должны быть весьма многочисленными. Так как мифология пронизывала все сферы общественного сознания скифского общества и являлась своего рода инструментом познания внешнего мира, многие детали этого мира воспринимались сквозь мифологическую призму и именно в таком деформированном виде описывались античным авторам их скифскими информаторами. В мифологические одежды облекались данные различного характера: социальные, этнографические, географические (о последних см., например: [Бонгард-Левин, Грантовский 1974: 31 – 32, 56 сл.]).
Материалом, который может быть сопоставлен с данными античной традиции и именно в совокупности с ними является ценнейшим источником для реконструкции скифской мифологии, служат изобразительные памятники, прежде всего многочисленные антропоморфные сюжетные композиции, украшающие предметы из скифских археологических комплексов. Значительная часть этих памятников является продукцией художественно-ремесленных мастерских греческих городов Северного Причерноморья. Общеизвестно абсолютное преобладание антропоморфных сюжетов в греческом искусстве, возросшем на благодатной почве эллинской религии с ее антропоморфным пантеоном. Но в причерноморских комплексах образы, традиционные для греческого искусства, соседствуют с иными, сугубо местными, необъяснимыми на основе греческой мифологии и воплощающими каких-то скифских персонажей. Количество таких изображений неуклонно пополняется за счет новых находок, особенно участившихся в последние годы. Эти изображения давно привлекают внимание исследователей, однако преимущественно с точки зрения, которая может быть названа «этнографической»: в них видят источник сведений о внешнем облике и деталях быта обитателей причерноморских степей. Гораздо реже исследуется сюжетное содержание композиций, встречающихся на найденных предметах; единство в оценке характера их содержания еще далеко не достигну-то, и тем более не предпринята конкретная интерпретация большинства из них.
Лишь некоторые из указанных композиций по традиции, восходящей в основном к работам М. И. Ростовцева, трактуются обычно как имеющие религиозное содержание. К ним относятся в основном различные сцены, которые М. И. Ростовцев рассматривал как воплощение мотива приобщения героя божеству: изображения на пластине от головного убора из кургана Карагодеуашх и обкладке ритона из того же комплекса, а также на фрагменте ритона из Мерджан, изображения богини с зеркалом и предстоящего ей скифа из Куль-обы и Чертомлыка и т. д. [см.: Ростовцев 1913]. Однако абсолютное большинство сюжетных композиций на скифских древностях вошло в литературу под широко принятым названием «сцены из жизни скифов». Это название отражает понимание их содержания как чисто бытового или, в лучшем случае, меморативного, т. е. воспроизводящего реальные события. К этой группе относятся сцены, украшающие куль-обский, воронежский и чертомлыкский сосуды, горит и гребень из Солохи, недавно найденную чашу из Гаймановой могилы и целый ряд других памятников такого типа.
Наглядным примером указанного толкования может служить интерпретация изображения на известном электровом сосуде из кургана Куль-оба (рис. 3). Наиболее широко принята его трактовка как памятника бытового жанра [см.: ВИИ 1956: 357 – 358; Блаватский 1947: 71]. Существует и иное, меморативное толкование сюжета куль-обского изображения, объясняющее его как воспроизведение сцен из жизни самого царя, похороненного в этом кургане. Основанием для такой интерпретации послужило… наличие в черепе царя больного зуба, «расположенного как раз в том месте, где манипулирует лекарь, изображенный на электровой вазе» [см.: Брашинский 1967: 36 – 37; Рохлин 1965: 248 – 250]. Возникает естественный вопрос: неужели в жизни скифского царя не нашлось события, более достойного воплощения в золоте, чем пережитая им зубная боль, и какими критериями руководствовались мастера при выборе сюжетов для украшения культовых предметов? К тому же больной зуб у погребенного в Куль-обе человека находился справа, тогда как лекарь «манипулирует» в левой части челюсти [Рохлин 1965: 250].
Принципиально иначе подходил к этим памятникам Б. Н. Граков. Отмечая ярко индивидуальный характер воспроизведенных здесь сцен, он трактовал их как иллюстрации к скифским мифам или к героическому эпосу [Граков 1950: 8]. Такой подход, результативность которого была наглядно продемонстрирована Б. Н. Граковым в работе «Скифский Геракл», открывал новые возможности для изучения идеологии скифского общества. В своих последних работах к толкованию «жанровых» сцен на скифских древностях как имеющих мифологическое содержание склонился и М. И. Артамонов [1966: 61; 1974: 117]. Однако широкого распространения такой подход не получил, и конкретное толкование сюжетов этих изображений практически не предпринималось, что обосновывалось, как правило, отсутствием необходимых данных. Между тем скудость данных, как я попытаюсь показать ниже, вовсе не столь абсолютна, как принято считать.
Но наиболее существенным представляется даже не конкретное толкование того или иного сюжета, а выяснение принципиального вопроса о характере содержания названных изображений. Здесь точка зрения Б. Н. Гракова может быть подкреплена двумя наблюдениями, представляющимися весьма существенными. Во-первых, следует отметить, что многие «сцены из жизни скифов» помещены на предметах явно культового назначения, например на сосудах с округлым туловом или ритонах, ритуальный характер которых был убедительно доказан еще М. И. Ростовцевым [1913: 10; 1914: 83]. Бытовые сюжеты, лишенные сакрального содержания, представляются на таких сосудах особенно неуместными. Во-вторых, при решении этого вопроса следует учитывать сам характер мировоззрения, свойственного архаическим обществам и оказывающего большое влияние на репертуар их искусства. Речь идет о проблеме восприятия времени человеком древности. Как указывает Дж. Уитроу [1964: 74], «долгое время аспектами времени, которые имели основное значение для человеческого ума, были не длительность, направленность и необратимость, а повторяемость и одновременность». Сознание древнего человека, возросшее на базе восприятия циклических изменений в природе, воспринимает и «социальное время», время бытия коллектива, как последовательное повторение определенных замкнутых циклов. Лишь то, что обладает способностью к многократному регулярному повторению, имеет социальную значимость. «Подобное восприятие времени сопряжено с отрицательным отношением к человеческой индивидуальности: ее самостоятельность и самобытность не представляют никакой ценности» [Гуревич 1969: 107]. Поэтому единичное событие в жизни отдельного индивида, не обладающее способностью к регулярной повторяемости, не воспринимается как «реальное», т. е. имеющее значение для коллектива, и в конечном счете не заслуживает воспроизведения в зримых образах. «Единичное, никогда прежде не случавшееся, не имело для них (членов архаического общества. – Д. Р.) самостоятельной ценности, – подлинную реальность могли получить лишь акты, освященные традицией, регулярно повторяющиеся» [Гуревич 1972: 87]. Способностью же к регулярному повторению, имитирующему периодичность явлений природы, в представлении архаического коллектива обладают события, зафиксированные в мифах о творении и регулярно воспроизводимые в ритуале, которому приписывается существование в особом временном ряду, в мифологическом времени, возвращающем в данный момент и в данную точку пространства время и место действия мифа, время начала, установившего существующий порядок вещей. Человеческий поступок ценен лишь постольку, поскольку в нем «повторяются деяния, некогда совершенные божеством или “культурным героем”» [Гуревич 1969: 107]. Для архаического сознания «объект или действие “реальны” постольку, поскольку они имитируют или повторяют идеальный прототип» [Уитроу 1964: 74]. Как отмечает В. Н. Топоров [1973: 114], «разумеется, есть жизнь, исполненная “низких” забот, злоба дня, но она не входит в систему высших ценностей, она нерелевантна. Существенно, реально лишь то, что сакрализовано, а сакрализовано лишь то, что составляет часть космоса, выводимо из него, причастно к нему».
Поэтому представляется, что жанровая сцена в современном понимании, воспроизведение какого-либо события, не отражающего основные концепции миропонимания и поэтому «лишенного реальности», не может явиться объектом архаического искусства [11 - По этой же причине архаическое искусство не знает портрета в современном его понимании, т. е. стремления воплотить индивидуальность. Если мы находим в древних памятниках изображения конкретных, реально существовавших лиц, то их связь с объектом выражается не в воплощении индивидуальных черт, характеризующих реальный образ, а через воспроизведение определенной суммы признаков, характеризующих социальный статус изображаемого персонажа, т. е. его место в организованном мире. Лишь в рамках этой системы вводятся элементы, отличающие конкретного индивида от ряда персонажей, тождественных ему с точки зрения положения в миропорядке.]. Содержанием архаического искусства на протяжении длительного времени остается лишь репертуар мифологических событий или ритуальных действий, т. е. тех, которые обладают периодической повторяемостью. Что касается меморативных сюжетов, то, разумеется, не приходится отрицать существования их уже на этом раннем этапе. Однако их репертуар достаточно ограничен. Воплощаются обычно события, имеющие максимальную общесоциальную значимость, например, военные победы, коронационные торжества и т. д. К тому же изображаемые события связаны с деятельностью царя – личности, персонифицирующей в своем лице весь коллектив, социальная организация которого осмыслится как модель универсального миропорядка. Царь есть фигура, наделенная космологическими функция-ми, поэтому его деяния есть в конечном счете то же традиционное сакральное действо, а не бытовое поведение [Топоров 1973: 115]. Но «сцены из скифской жизни» зачастую весьма далеки от воплощения подобных общезначимых событий: достаточно вспомнить, например, содержание того же изображения на куль-обской вазе, конкретность, «нетипичность» которого отмечалась еще Б. Н. Граковым. Воплощение этого сюжета может быть поэтому объяснено лишь его мифологическим происхождением.
Качественно новый подход к вопросу о ценности отдельной личности и ее деятельности, которым ознаменовался период античности [см.: Кессиди 1972: 26], естественно, должен был оказать влияние на репертуар античного искусства, на демифологизацию его сюжетов и обращение к более широко понимаемому бытовому жанру. Однако и для античности еще в значительной степени было свойственно циклическое восприятие времени [Гуревич 1969: 108; Уитроу 1964: 44, примеч. 1; Аверинцев 1975: 269]. Поэтому если и можно в известной степени говорить, что Северное Причерноморье, где взаимодействовали две культуры – скифская и греческая, явилось местом встречи двух качественно различных мировоззрений, то толковать сюжеты, представленные на скифских памятниках, как полностью десакрализованные вряд ли допустимо даже в тех случаях, когда эти памятники выполнены греческими мастерами. Следует также учитывать, что обращение греческих мастеров к скифским сюжетам, как неоднократно справедливо отмечалось в литературе, было в значительной степени вызвано стремлением повысить спрос на свои изделия в скифской среде. Поэтому вся система представлений, стоящих за этими изображениями, должна была соответствовать запросам общества-потребителя, и рассматривать их следует исходя прежде всего из характера скифского, а не греческого мировоззрения.
Сказанное заставляет трактовать все без исключения «сцены из жизни скифов» как воплощения определенных мифических сюжетов и, следовательно, как ценнейший источник для реконструкции скифского мифологического комплекса. В ряде случаев, как мы увидим ниже, удается уловить прямое соответствие между их содержанием и известными из античной традиции мотивами скифских сказаний; в других случаях, когда такой близости нет, эти изображения расширяют известный нам репертуар скифских мифов.
Мифологическое содержание тем более следует приписывать антропоморфным композициям, которые не были созданы греческими мастерами на скифский заказ, а являлись произведениями собственно скифских художников. Между тем в литературе широко принято, например, толкование росписей в погребальных склепах поздне-скифской крымской столицы – так называемого Неаполя скифского – как изображений эпизодов из жизни похороненных здесь людей [Бабенчиков 1957: 114; Шульц 1947: 27]. Как отмеченные особенности архаического искусства, так и конкретное содержание неапольских росписей [см. ниже, гл. IV, 2] заставляют не согласиться с таким их толкованием.
Вопрос о причине распространения в искусстве Европейской Скифии на определенном этапе ее истории антропоморфных мотивов достаточно сложен. Безусловно, значительную роль сыграло здесь прямое влияние античных культурных традиций. Однако, как отмечал уже Б. Н. Граков, воспринять это влияние Скифия смогла лишь вследствие того, что была подготовлена к этому собственной социальной эволюцией [Граков 1950: 7, 15 – 16]. Вопроса о соотношении собственно скифского и греческого моментов в процессе антропоморфизации скифского искусства я касаюсь в специальной работе [Раевский 1978].
Однако даже комплексный анализ данных античных письменных источников и изобразительных памятников не позволяет составить достаточно полное представление о репертуаре скифской мифологии и о характере скифских религиозных представлений. Естественно, что даже при толковании отдельных сюжетов, а тем более при попытках более или менее широкой реконструкции исследователям приходится обращаться к методу привлечения аналогий. Сам по себе этот метод не может вызвать возражений, но он таит в себе опасность необоснованно широких сближений, базирующихся лишь на типологическом сходстве разноэтнических мифов и верований. Скифские мифические персонажи толковались на основе сопоставления или даже прямого отождествления с греческими, фракийскими, малоазийскими, сирийскими и многими другими. Недавно Л. А. Ельницкий [1970: 64] выступил с принципиальной защитой методической правомочности и результативности максимального расширения круга привлекаемых аналогий. Разумеется, определенные выводы о характере скифских верований, прежде всего об уровне их развития, такие сопоставления сделать позволяют [12 - Парадоксальные результаты получаются, однако, когда на основе этих сближений делаются выводы этноисторического характера. Так, Л. А. Ельницкий, предложив ряд сопоставлений скифских, фракийских и малоазийских теонимов, зачастую основанных лишь па сомнительных созвучиях, заключает эти построения выводом, что «тот географический ареал, который должен быть покрыт понятием “скифский” соответственно распространению имен этих божеств, не согласуется с представлениями самого Геродота». Казалось бы, естественно усомниться в правильности построений, приведших к такому выводу, но Л. А. Ельницкий предпочитает усомниться в точности сообщаемых Геродотом сведений и делает вывод: «Необходимо подчеркнуть искусственность понятия Скифии и скифских племен у Геродота» [Ельницкий 1960: 51, примеч. 32].]. Однако наиболее достоверная реконструкция скифской мифологии возможна лишь при условии ограничения привлекаемых аналогий мифологическими системами народов, генетически близких скифам.
Анализ скифского ономастического материала, сохраненного опять-таки античными источниками, в том числе эпиграфическими, неопровержимо доказывает принадлежность причерноморских скифов к народам восточно-иранской группы (см. работы К. Мюлленгофа, В. Ф. Миллера, М. Фасмера, В. И. Абаева, Л. Згусты, Я. Харматты и др.). Между тем общеизвестно наличие многочисленных схождений в мифологии и религии различных народов иранской группы и даже в мифологии иранцев и индоариев, восходящих к периоду индоиранского единства [о времени и характере распада арийского, а затем иранского единства см. в новейшей советской литературе: Абаев 1972; Грантовский 1970: 351 сл.]. Поэтому представляется, что поиски аналогий скифским мифологическим мотивам в мифологических системах других индоиранских народов, в первую очередь собственно иранских, создают возможность более убедительной и исторически оправданной реконструкции скифской мифологии, чем привлечение чисто типологических аналогий. Между тем общеарийский мифологический материал явно недостаточно привлекался для толкования скифских мифологических сюжетов – и тех, которые отражены в античной традиции, и в особенности тех, которые зафиксированы в изобразительных материалах.
Отдельные пассажи, в которых скифские религиозные персонажи, упоминаемые античными авторами, толкуются на основе сопоставления с данными общеиранской и общеарийской традиций, содержатся в работах многих авторов. Но, как правило, даже при подобном подходе эти персонажи рассматриваются изолированно, вне целостной характеристики скифской религиозной системы, и следует отметить, что скифология в этом смысле существенно отстает от тех областей науки, которые на базе сравнительного анализа изучают культурное наследие других индоиранских народов. Что касается толкования изобразительного материала из скифских комплексов, то определенные шаги в этом направлении – привлечение иранских аналогий – были предприняты еще М. И. Ростовцевым. Однако этот автор исходил из тезиса, что «официальный облик религия скифских царств приняла от Ирана не в древнейшем его виде, а в том, в каком маздеизм существовал в эпоху раннего эллинизма в Малой Азии» [Ростовцев 1913: 17]. Это мнение, практически авто-ром не аргументированное, вытекает из общего понимания М. И. Ростовцевым происхождения и исторической роли иранского элемента в причерноморских степях в древности [см.: Ростовцев 1918]. Получающая в современной науке все более широкое признание концепция о весьма раннем обитании иранцев в этом регионе [Абаев 1971: 11; 1972: 29 – 30, 36 – 37; Грантовский 1970: 355 – 356] позволяет утверждать, что гораздо более перспективными являются поиски в религиозно-мифологических представлениях скифов исконно иранских незаимствованных мотивов, выявление схождений с другими системами на уровне общеиранского и даже общеарийского мифологического пласта.
Материал для таких сопоставлений черпается в первую очередь, конечно, из Авесты как памятника, наиболее полно отразившего древнеиранские религиозные представления. Однако, поскольку сама Авеста все же сохранила эту древнюю иранскую мифологию достаточно фрагментарно, необходимо и правомочно привлечение и иных, более поздних иранских памятников, содержащих порой те мотивы раннеиранских мифов, которые не нашли отражения в сохранившихся частях Авесты: зороастрийских сочинений позднего времени, эпопеи Фирдоуси и т. д., т. е. всех тех источников, которые вообще привлекаются для реконструкции идеологических представлений древнеиранских народов [13 - Результативность привлечения поздних источников для реконструкции раннеиранской системы представлений наглядно продемонстрирована, например, в книге Г. Бэйли [Bailey 1943].]. Необходимо также привлечение индийских памятников, поскольку именно в них порой могут найти отражение те элементы, которые были свойственны не только обще-арийской или индоарийской, но и древнеиранской системе представлений, но не нашли отражения в сохранившихся иранских па-мятниках. Разумеется, чем генетически и хронологически ближе к скифам привлекаемый для сравнения материал, тем меньше элемент гипотетичности в предлагаемых на его основе реконструкциях. С увеличением генетического и хронологического расстояния гипотетичность реконструкции возрастает. Но в целом правомочность привлечения всего этого круга данных представляется несомненной. Эти данные не только облегчают толкование отдельных мотивов, но и проясняют их взаимосвязь.
Что может являться критерием для предположения тождества того или иного скифского мифа или персонажа мифу или персонажу, известному другим индоиранским традициям? Представляется, что для этой цели мы можем оперировать следующими видами схождений:
1. Сюжетные
2. Ситуационные, близкие к первому виду, но менее развернутые и поэтому не тождественные ему.
3. Атрибутивные, т. е. связанные с присущими данным персонажам атрибутам.
4. Иконические, т. е. отражающие сходный облик персонажей.
5. Ономастические, наиболее отчетливо свидетельствующие о тождестве персонажей. В этой связи следует, однако, отметить справедливое замечание Т. Я. Елизаренковой, что имена большинства мифологических персонажей «являются описательными (собственно, эпитетами)», более или менее прочно закрепленными за ними. Поэтому отсутствие в разных традициях указаний на общее имя у сходных персонажей «не исключает существования возможного общего имени» и, следовательно, единства исходного образа [Елизаренкова 1972: 54, примеч. 137].
6. Функционально-религиозные, требующие весьма осторожного подхода ввиду распространенного в самых разных религиях функционального дублирования друг друга различными персонажами, вытекающего из многоярусности, гетерогенности любой религиозной системы.
На основании привлечения таких схождений с данными других индоиранских религиозно-мифологических традиций должны быть сопоставлены скифские мотивы, сюжеты и персонажи, зафиксированные в античных письменных источниках и изобразительных памятниках.
Итак, для реконструкции скифских религиозно-мифологических представлений мы располагаем тремя группами источников: данными античных авторов, изобразительными памятниками и общеарийскими параллелями. Рассмотренные в неразрывном единстве, они корректируют друг друга, уточняют правомочность предлагаемых толкований. Исходным материалом в каждом случае должны, безусловно, служить источники двух первых групп, так как лишь при этом условии мы избегнем риска растворить собственно скифскую мифологию в массе мотивов, свойственных различным индоиранским народам, лишить ее индивидуальности. Арийские аналогии лишь помогают «озвучить» скифский материал, но ни в коем случае не подменяют его.
Разумеется, даже в совокупности все три категории источников не являются достаточной базой для реконструкции скифской религиозно-мифологической системы во всем ее объеме. Поэтому, предпринимая в свое время первые шаги на пути изучения скифской мифологии и религии, я не ставил перед собой задачи шире, чем истолкование отдельных сюжетных изображений на археологических памятниках или некоторых упомянутых в античных источниках мифических персонажей. Но по мере работы все яснее становилась тесная связь этих сюжетов и образов между собой; интерпретация каждого из них, не меняя сущности предложенных ранее толкований, вносила в них определенные коррективы и открывала путь для новых интерпретаций. Именно это обстоятельство показало принципиальную возможность толкования большой серии мотивов и сюжетов, зафиксированных в различных источниках, в их совокупности, т. е. возможность реконструкции по крайней мере какой-то части единого скифского мифологического комплекса, отражающего целостную систему представлений. Такой подход значительно увеличивает ценность сохранившихся фрагментов скифской мифологии. Во-первых, он позволяет глубже проникнуть в характер религиозно-мифологических воззрений скифов. Во-вторых, отмеченный выше универсальный характер мифологии как идеологической системы позволяет осветить некоторые стороны социальной и политической идеологии скифов, перекидывает мост в область социально-политической истории.
За пределами собственно Скифии реконструкция скифской мифологической системы проливает свет на историю культуры других ираноязычных народов евразийского степного пояса, менее развернуто отраженной в источниках. Ниже я остановлюсь на ряде схождений в идеологии причерноморских скифов и саков Средней Азии (гл. III, 2), позволяющих расширить ареал реконструируемой системы и в то же время дающих возможность с несколько новой стороны подойти к еще далекому от разрешения вопросу о характере этногенетических отношений между различными народами скифосакского мира.
Реконструируемая система имеет существенное значение и для изучения идеологии ираноязычных народов в целом. В литературе уже отмечалось, что, изучая представления древних иранцев на западноиранском материале (персидском, индийском), наука зачастую не имеет возможности отделить исконный иранский элемент в этих представлениях от многочисленных ближневосточных заимствований. В первую очередь это относится к сфере социальнополитичес-кой идеологии, так как многовековой опыт государственной жизни в странах Передней Азии должен был наложить печать на идеологию ираноязычных пришельцев в эпоху сложения Мидийского, а затем Ахеменидского государств. Восточно-иранский, в частности скифский, материал в этом плане представляет значительный интерес, поскольку может способствовать выявлению собственно иранских, отчасти восходящих к общеарийским, элементов в идеологии иранских народов. Это связано с тем, что восточно-иранский мир не попал в сферу постоянного переднеазиатского влияния [Widengren 1959: 243]. Краткое пребывание скифов в Передней Азии, хотя и оказало, видимо, влияние на их идеологию, не могло иметь таких последствий, как многовековые контакты западноиранских народов с государствами Ближнего Востока [см. также: Хазанов 1975: 47].
Наконец, реконструкция системы религиозно-мифологических представлений, свойственных скифам, может сыграть важную роль в выяснении семантики евразийского звериного стиля, так как в данном случае наиболее вероятно получение данных, которые, как отмечалось выше, необходимы для постижения кода, свойственного памятникам этого стиля. Сочетание в рамках скифской культуры зооморфной символики звериного стиля и антропоморфной мифологии, реконструкции некоторых элементов которой посвящена на-стоящая работа, позволяет вплотную подойти к решению этого вопроса.
Разумеется, даже в тех пределах, которые допускает состояние источников, реконструкция скифской религиозно-мифологической системы на первых порах носит в значительной степени предварительный характер. Я прекрасно сознаю гипотетичность многих предлагаемых здесь толкований и построений. Это следует подчеркнуть сразу, чтобы не возвращаться к повторению подобной оговорки в начале и в конце каждого раздела. Такую гипотетичность предполагает сам характер материала – крайне фрагментарного и скудного. Для меня подтверждением правильности избранного направления и в известной мере верности предлагаемых интерпретаций служили, в частности, те случаи, когда материал, по тем или иным причинам не привлекавшийся в ходе реконструкции, хорошо вписывался затем в предложенную без его учета систему. Представляется, что подобные случаи могут рассматриваться как объективные аргументы в поддержку предлагаемых трактовок, поскольку они указывают, что данная система дает согласованное толкование максимального числа фактов. В ряде случаев, для того чтобы продемонстрировать контрольную роль не привлекавшихся в процессе интерпретации источников, в изложении сохранен порядок рассмотрения материала, имевший место в ходе анализа.
Заканчивая введение, я считаю приятным долгом поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении отдельных разделов данной работы или взял на себя труд прочитать ее в рукописи и сделать ряд весьма ценных замечаний. Особую признательность хочу выразить В. И. Абаеву, к ценным консультациям которого я, не будучи лингвистом, прибегал всякий раз, когда по ходу исследования требовалось привлечение лингвистических данных [14 - Когда эта работа была уже завершена, вышло в свет фундаментальное исследование А. М. Хазанова [1975], с которым я еще ранее благодаря любезности автора получил возможность ознакомиться в рукописи. В нем существенное место уделено ряду проблем, затрагиваемых также на этих страницах. С удовлетворением отметив совпадение ряда наших толкований, я лишь в ограниченном объеме смог включить в данную работу полемику с А. М. Хазановым по тем вопросам, где наши точки зрения различны.].
Глава I. Скифская генеалогическая легенда
Скифская генеалогическая легенда [15 - В литературе эта легенда наиболее часто именуется этногонической или легендой о происхождении скифов. В ряде опубликованных статей такого названия придерживался и я. В настоящее время, однако, это определение представляется мне не соответствующим характеру анализируемого предания. С одной стороны, исследования Ж. Дюмезиля, Э. А. Грантовского и других авторов показали, что заключительный мотив легенды не имеет этногонического смысла, а повествует о сложении социальной структуры скифского общества. С другой стороны, этиологическое содержание предания в целом, как я попытаюсь показать ниже, не ограничивается рассказом о происхождении скифов, а имеет значительно более универсальный характер. В то же время во всех версиях легенды ее содержание облечено в генеалогическую схему. Поэтому принятое в настоящей работе определение, уже употреблявшееся в советской литературе [см.: Петров, Макаревич 1963], вполне соответствует характеру материала и вместе с тем наиболее нейтрально по отношению к различным его толкованиям, исключает априорное предпочтение одного из них.] – единственный сюжет скифской мифологии, сохранившийся в виде более или менее развернутого связного повествования и даже в нескольких вариантах. Естественно поэтому, что она привлекала и продолжает привлекать внимание исследователей, как отечественных, так и зарубежных, и ей посвящена обширная литература. Однако довольно многочисленные толкования этой легенды, весьма близкие по методике подхода к материалу, зачастую являются взаимоисключающими по сути. Объясняется это прежде всего тем, что исследователи, как правило, сосредоточивали свое внимание на отдельных моментах повествования, преимущественно на тех, которые позволяли видеть в этой легенде источник по этнической или социальной истории скифов. При этом явно недостаточно внимания уделялось анализу легенды как источника мифологического [16 - К сходному выводу пришел недавно А. М. Хазанов. Говоря о первой Геродотовой версии легенды, он объяснил слабость существующих ее интерпретаций тем, что «за основу брались только отдельные части версии, остальные же, по существу, игнорировались», и подчеркнул, что «скифская этногоническая легенда в своих основных частях обладает всеми признаками мифа» [Хазанов 1975: 38, 39]. К сожалению, такое понимание легенды выдержано в работе А. М. Хазанова недостаточно последовательно (автор характеризует ее то как миф, то как образчик «ранней ступени развития эпоса») [см. там же: 53], а вытекающие из него возможности интерпретации остались фактически нереализованными. Исходя из поставленной им перед собой задачи использования легенды как исторического источника, А. М. Хазанов пошел по другому пути, предприняв попытку реконструировать историю ее формирования. Он пришел к выводу, что скифская генеалогическая легенда «неоднородна и разновременна» [там же: 53], выделил в ней «пять эпизодов, пять составных частей, пять сюжетных линий, обладающих значительной самостоятельностью» [там же: 39], и высказал мнение, что в легенде имеется много неясностей и противоречий, проявляющихся преимущественно на стыках этих сюжетных линий. Следует, однако, учитывать, что «выяснение генезиса художественных произведений расслаивает эти произведения… на ряд стадиальных пластов, так что вскрывается гетерогенность отдельных элементов произведения. Однако такое “разнимание на части” не может вести к рассмотрению произведения словесного искусства как действующих систем… “Историческое” и “логическое” далеко не всегда и не во всем совпадают» [Мелетинский 1974: 332]. Тем более значительным должно оказаться расхождение между анализом смысла и анализом истории формирования в том случае, когда предметом анализа выступает не просто произведение словесного искусства, а миф. Происходит это потому, что миф – пока он действительно функционирует как миф, т. е. инструмент познания окружающего мира, а не представляет лишь изложение сюжетной канвы, – есть «цельная структура, имеющая некоторый общий смысл, не разложимый по синтагматическим звеньям» [Мелетинский 1970: 168]. Эта «тотальная организованность мифа» [там же: 169] при попытке выявления гетерогенных его элементов разрушается, и миф как система перестает существовать, превращаясь в последовательный набор эпизодов. Охарактеризовав скифскую легенду как миф, А. М. Хазанов, в сущности, анализировал ее как немифологический памятник. Материал при этом нередко оказывал противодействие толкованию чуждыми его природе методами. Представляется, что и сами «неясности и противоречия», обнаруженные А. М. Хазановым в скифской легенде, проявляются преимущественно не «на стыках ее различных сюжетных линий» [Хазанов 1975: 39], а именно там, где к мифологическому материалу автор подходил с немифологическими мерками. К числу этих неясностей отнесено, например, отсутствие сведений о том, «как происходило управление царством до падения с неба золотых даров и испытания трех братьев» [там же: 38]. Но ведь эти три брата – первые (после Таргитая) люди скифской мифологии. Речь в мифе идет о начале мира, о происхождении скифов, о возникновении свойственной скифскому обществу социальной структуры и политических форм. О каком управлении царством до начала мира может идти речь?], тогда как эта ее особенность требует принципиально иного подхода к ее анализу и толкованию, прежде всего исследования всех элементов повествования в их единстве, что я и попытаюсь сделать в этой главе. Однако для осуществления такого анализа представляется необходимым прежде всего систематизировать весь относящийся к легенде материал.
Как уже отмечалось, легенда эта сохранилась в нескольких вариантах, причем характер изложения и его полнота существенно разнятся. Поэтому, если для толкования одного варианта исследователь использует материал, содержащийся в других версиях легенды, не-обходимо достаточно веское обоснование сближения каждой пары мотивов, заимствованных из разных источников. Однако, как правило, такое обоснование не предпринималось, вследствие чего один и тот же мотив из какого-либо варианта разными авторами сближался с различными мотивами другого. Например, Б. Н. Граков [1950] отождествлял Таргитая из первой Геродотовой версии предания с Гераклом, фигурирующим во второй версии Геродота, тогда как В. П. Петров [1968: 36 – 37], а до него В. Ф. Миллер [1887: 128] полагали, что как муж змееногой богини Геракл из второй версии соответствует в первой версии не Таргитаю, а его отцу Зевсу. Другой пример: во второй версии Геродота и в рассказе Диодора фигурируют персонажи, носящие одинаковое имя Скиф; однако их место в сюжете заставляет поставить под сомнение их тождество. Все эти неясности и расхождения (а их число можно умножить) вызваны отсутствием строгого анализа структуры каждого варианта легенды и систематического сопоставления этих структур. Поэтому необходимым элементом работы представляется систематическое сопоставление всех имеющихся версий предания и выявление степени и характера расхождений между ними, что обеспечит оправданное сближение тех или иных мотивов, заимствованных из разных вариантов.
В настоящее время можно назвать пять версий, содержащих более или менее развернутое изложение интересующего нас предания. Они дошли до нас в передаче различных древних авторов и обладают разной степенью полноты и ясности изложения [17 - Кроме специально оговоренных случаев, все цитаты из античных авторов даны в переводах, заимствованных из известной антологии В. В. Латышева [1893 – 1906].].
Первая, наиболее информативная версия содержится в труде Геродота (IV, 5 – 7) и обычно именуется исконно скифской (в дальнейшем обозначается как версия Г-I). По словам отца истории, в таком виде легенду рассказывали сами причерноморские скифы.
5. Скифы говорят, что их народ моложе всех других и произошел следующим образом: в их земле, бывшей безлюдной пустыней, родился первый человек, по имени Таргитай; родителями этого Таргитая они называют, по моему мнению неверно, Зевса и дочь реки Борисфена. Такого-де происхождения был Таргитай, а у него родились три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них упали-де с неба на скифскую землю золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Старший из братьев, первым увидев эти предметы, подошел ближе, желая их взять, но при его приближении золото воспламенилось. По его удалении подошел второй, но с золотом повторилось то же самое. Таким образом золото, воспламеняясь, не допустило их к себе, но с приближением третьего брата, самого младшего, горение прекратилось, и он отнес к себе золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему все царство.
И вот от Липоксая-де произошли те скифы, которые носят название рода авхатов, от среднего брата Арпоксая – те, которые называются катиарами и траспиями, а от младшего, царя [18 - Такой перевод опирается на исправление, внесенное в рукописи труда Геродота. Без этого исправления данный пассаж гласит: «а от младшего – цари, которые называются паралатами» ([Жебелев 1953: 332 – 333, примеч. 1; Грантовский 1960: 4 и 17, примеч. 12 – 14], что, как показал Э. А. Грантовский, вполне соответствует содержанию легенды.], – те, что называются паралатами; общее же название всех их – сколоты, по имени одного царя; скифами назвали их эллины.
6. Так рассказывают скифы о своем происхождении; лет им, с начала их существования или от первого царя Таргитая до похода на них Дария, по их словам, круглым счетом не более тысячи, а именно столько. Вышеупомянутое священное золото цари их очень ревностно охраняют и ежегодно чтут богатыми жертвами. Кто с этим священным золотом во время праздника заснет под открытым небом, тот, по словам скифов, уже не проживет года; поэтому ему дается столько земли, сколько он сам объедет на коне в один день. Так как страна была обширна, то Колаксай разделил ее на три царства для своих сыновей и одно из них сделал гораздо больше других; в нем-то и сохраняется золото.
Второй вариант легенды также рассказан Геродотом (IV, 8 – 10) и в дальнейшем обозначается как версия Г-II. Геродот приписывает его припонтийским грекам, но после работ целого ряда авторов [Клингер 1903: 100; Граков 1950: 8 cл.; Толстой 1966: 234 и др.] не приходится доказывать, что в основе его также лежит исконно скифское предание, подвергшееся, правда, значительной эллинской обработке. В чем конкретно проявилась эта эллинизация, будет показано ниже. В этой версии легенда звучит так:
8… Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в страну, которую теперь занимают скифы и которая тогда еще не была заселена. Герион, по словам эллинов, живет вне Понта, на острове, который эллины называют Эрифиею и который лежит близ Гадир за Геракловыми столбами на Океане… Оттуда прибыл-де Геракл в страну, называемую ныне Скифией, и так как его застигла вьюга и мороз, то он закутался в львиную шкуру и заснул, а в это время его лошади каким-то чудом на пастбище исчезли из-под ярма.
9. Проснувшись, Геракл стал искать их и, исходив всю землю, пришел, наконец, в так называемое Полесье; тут он нашел в пещере смешанной породы существо, полудеву и полуехидну, у которой верхняя часть тела от ягодиц была женская, а нижняя – змеиная. Увидев ее и изумившись, Геракл спросил, не видела ли она где-нибудь заблудившихся кобылиц; на что она ответила, что кобылицы у нее, но что она не отдаст их ему, прежде чем он сообщится с нею; и Геракл сообщился-де за эту плату, но она все откладывала воз-вращение лошадей, желая как можно дольше жить в связи с Гераклом, тогда как последний желал получить их и удалиться. Наконец, она возвратила лошадей со словами: «Я сберегла тебе этих лошадей, забредших сюда, и ты отплатил мне за это: я имею от тебя трех сыновей. Расскажи, что мне делать с ними, когда они вырастут: поселить ли здесь (я одна владею этой страной) или отослать к тебе?» Так спросила она, и Геракл, говорят, сказал ей в ответ: «Когда ты увидишь сыновей возмужавшими, поступи лучше всего так: посмотри, который из них натянет вот так этот лук и опояшется по-моему этим поясом, и тому предоставь для жительства эту землю; а который не в состоянии будет выполнить предлагаемой мною зада-чи, того вышли из страны. Поступая таким образом, ты и сама останешься довольна, и исполнишь мое желание».
10. При этом Геракл натянул один из луков (до тех пор он носил два), показал способ опоясывания и передал ей лук и пояс с золотой чашей на конце пряжки, а затем удалился. Она же, когда родившиеся у нее сыновья возмужали, дала им имена: одному – Агафирс, следующему – Гелон, младшему – Скиф, а потом, помня завет Геракла, исполнила его поручение. Двое из ее сыновей, Агафирс и Гелон, оказавшись неспособными исполнить предложенный подвиг, были изгнаны родительницею и удалились из страны, а самый младший – Скиф, исполнив задачу, остался в стране. От этого-то Гераклова сына и произошли-де всегдашние скифские цари, а от чаши Геракла – существующий до сих пор у скифов обычай носить чаши на поясах. Так рассказывают живущие у Понта эллины.
Так называемый третий Геродотов вариант легенды о происхождении скифов (IV, 11 – 12) стоит совершенно особняком, так как в отличие от двух приведенных содержит не мифологический материал, а историческое предание о передвижении скифов на занимаемую ими в историческое время территорию. Поэтому этот рассказ (версия Г-III) не привлекается мной к анализу скифской генеалогической легенды, хотя к содержащейся в нем информации нам впоследствии придется обратиться.
Элементы интересующей нас легенды, также привлекаемые для сравнительного анализа, содержатся и в поэме Валерия Флакка «Аргонавтика» (Val. F1., VI, 48 – 68). Они включены поэтом в описание народов, принявших участие в битве между Персом и Ээтом.
Среди этих народов фигурируют «легион Бизальты и предводитель Колакс (Colaxes), тоже божественной крови: Юпитер произвел его на Скифском побережье вблизи зеленой Мираки и Тибисенских устьев, прельщенный (если это достойно веры) полузверским телом и не устрашенный двумя змеями нимфы. Вся фаланга носит на резных покровах Юпитеров атрибут – разделенные на три части огни. Не ты первый, воин римский, рассыпал по щитам лучи сверкающей молнии и красные крылья. Кроме того, сам Колакс собрал воздушных драконов, отличие матери Оры, и с обеих сторон противопоставленные змеи сближаются языками и наносят раны точеному камню. Третий – Авх (Auchus), пришедший с единодушными тысячами, выставляет напоказ киммерийские богатства; у него издавна белые волосы, прирожденный знак; пожилой возраст уже образует простор на голове; обвивая виски тройным узлом, он спускает со священной головы две повязки. Дарапс (Daraps), страдавший от раны, полученной в Ахеменской битве, послал на войну Датия…».
При сопоставлении с другими версиями легенды этот материал требует существенной реконструкции, но информативная ценность его несомненна. Этот источник (в дальнейшем – версия ВФ) подробно проанализирован Э. А. Грантовским [1960: 5 cл.]. У Валерия Флакка нет последовательного изложения интересующего нас сюжета, но в ткань его поэмы вплетены имена персонажей и описание их атрибутов, а также некоторые мотивы, связанные со скифской легендой. Наиболее близки они к версии Г-I, однако, по наблюдению Э. А. Грантовского, ряд данных показывает, что Флакк пользовался источником, независимым от Геродота.
Следует отметить, что этот тезис Э. А. Грантовского не является общепризнанным, а ряд исследователей вообще подвергают сомнению ценность поэмы Флакка как самостоятельного источника. Уже М. И. Ростовцев [1925: 62] полагал, что атрибуты, которые Валерий Флакк придает тому или иному персонажу, в значительной степени случайны, что «у него был ряд заметок этнографического содержания частью в памяти, частью в записи, ряд отдельных характерных и красивых черт без точных указаний на тот или другой народ, и этот ряд заметок Валерий причудливо вплел в свою хорографию». Не будучи достаточно компетентным в области античного источниковедения, чтобы оспаривать такое толкование поэмы Флакка в целом, отмечу лишь, что реалии, привязанные в этой поэме к персонажам, одноименным героям версии Г-I нашей легенды, образуют достаточно строгую систему. Они хорошо согласуются с толкованием этих персонажей на основании интерпретации других фактов, в частности этимологии их имен и названий возводимых к ним родов. Поэтому объяснение их как произвольно сгруппированных не выглядит сколько-нибудь убедительно.
Концепция Э. А. Грантовского о независимости источников Валерия Флакка от Геродота вызвала недавно развернутую критику Ж. Дюмезиля, который трактует пассаж «Аргонавтики», касающийся Колакса и Авха, лишь как реминисценцию рассказа Геродота, украшенную поэтическими фантазиями самого Флакка [Dumеzil 1962: 190 – 194; см. также: Хазанов 1975: 276 – 277, примеч. 14]. Аргумен-ты Ж. Дюмезиля не кажутся, однако, основательными. Так, его утверждение, что этноним «тирсагеты» выдуман самим автором «Аргонавтики», сконструировавшим его из тиссагетов и агафирсов (агатирсов), опровергнуто Э. А. Грантовским [1975: 83], показавшим, что это закономерная передача этнонима «тиссагеты», соответствующая более ранним, чем зафиксированная у Геродота, фонетическим нормам. Справедливым представляется и наблюдение Э. А. Грантовского [1960: 18, примеч. 19], что описание змееногой богини у Флакка более соответствует ее изображениям на скифских древностях, чем то, которое дано у Геродота, игнорирующего некоторые существенные детали ее облика. К этому можно добавить, что у Флакка змееногая богиня выступает в роли супруги Юпитера, тогда как у Геродота мотив супружества Зевса и змееногой богини вообще не нашел отражения. Он есть в рассказе Диодора (см. ниже). У Геродота же в версии Г-I, перекликающейся в других элементах с версией Флакка, супругой Зевса названа дочь Борисфена, внешний облик которой не описан, а змееногая богиня фигурирует в версии Г-II в качестве супруги Геракла. Таким образом, в этой части версия ВФ коренным обазом отличается от версии Г-I и вопреки мнению Ж. Дюмезиля никак не может являться заимствованием из нее. Правда, как будет по-казано далее, содержанию исконного скифского мифа соответствуют обе версии. Но это становится ясным лишь после сравнительного анализа всех версий мифа вроде того, который предпринимается ниже. Вряд ли Валерий Флакк предпринимал подобные сравнительно-мифологические штудии, чтобы суметь столь удачно «исказить» имевшийся в его распоряжении текст Геродота. Остается, следовательно, признать его независимость от отца истории и возводить этот пассаж его поэмы к некоему несохранившемуся источнику, довольно подробно излагавшему скифский миф. О том, что такие источники, не возводимые к Геродоту и даже предшествующие ему по времени, существовали, свидетельствует, например, упоминание «колаксайского» или «Колаксаева» коня поэтом Алкманом (fr. 23). Некоторые исследователи возводят этот мотив к Аристею, полагая, что в его поэме излагалось, полностью или частично, предание о Колаксае и его трех сыновьях [Bolton 1962: 43, 181]. К такому же несохранившемуся источнику, возможно, восходят и сведения Флакка о Колаксе и Авхе. О ряде мотивов, имеющихся у Флакка, но отсутствующих у Геродота, мне еще придется говорить ниже.
Четвертый вариант легенды сохранился в передаче Диодора Сицилийского (II, 43 – в дальнейшем версия ДС). Здесь, как и в первых двух версиях, содержится связное повествование о происхождении скифов и о разделении их на две ветви, однако структура этой версии сложнее, так как мифологические мотивы перемежаются здесь с данными исторического характера, близкими к рассказу Г-III:
Сначала они (скифы. – Д. Р.) жили в очень незначительном количестве у реки Аракса и были презираемы за свое бесславие; но еще в древности под управлением одного воинственного и отличавшегося стратегическими способностями царя они приобрели себе страну в горах до Кавказа, а в низменностях прибрежья Океана и Меотийского озера и прочие области до реки Танаиса. Впоследствии, по скифским преданиям, появилась у них рожденная землей дева, у которой верхняя часть тела до пояса была женская, а нижняя – змеиная. Зевс, совокупившись с ней, произвел сына по имени Скиф, который, превзойдя славой всех своих предшественников, назвал народ по своему имени скифами. В числе потомков этого царя были два брата, отличавшиеся доблестью; один из них назывался Пал, а другой – Нап. Когда они совершили славные подвиги и разделили между собой царство, по имени каждого из них назвались народы – один палами (П????), а другой налами (?????). Спустя несколько времени потомки этих царей… подчинили себе обширную страну за рекой Танаисом до Фракии и, направив военные действия в другую сторону, распространили свое владычество до египетской реки Нила. Поработив себе многие значительные племена, жившие между этими пределами, они распространили господство скифов с одной стороны до восточного океана, с другой до Каспийского моря и Меотийского озера; ибо это племя широко разрослось и имело замечательных царей, по имени которых одни были названы саками, другие массагетами, некоторые аримаспами и подобно им многие другие.
Наконец, еще один вариант того же рассказа содержится в греческом эпиграфическом памятнике (IG, XIV, № 1293 А, строки 94 – 97). В дальнейшем эта версия обозначается Эп. С остальными вариантами скифской легенды этот источник был сопоставлен Л. А. Ельницким [1960: 49] и наиболее основательно – И. И. Толстым [1966: 234 – 235] [19 - В работе И. И. Толстого ошибочно дана ссылка на свод латинских надписей.]. Надпись эта, посвященная деяниям Геракла, среди прочих событий его жизни упоминает приход в Скифию: