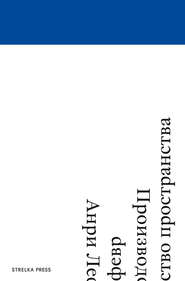скачать книгу бесплатно
Производство пространства
Анри Лефевр
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Анри Лефевр
Производство пространства
HENRI LEFEBVRE
LA PRODUCTION DE L’ESPACE
© Editions Economica, Paris, 2000. This Russian edition has been translated from the original French publication La production d’espace, 4e еd.
© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2015
К читателю
Зажатый в четырех стенах
(к северу – чистые снега незнания,
можно придумать пейзаж
к югу – память самопознания
к востоку – зеркало
к западу – камень и песнь тишины)
писал я послания без ответа.
Октавио Пас
Предисловие
Производство пространства
Лет двенадцать – пятнадцать назад, когда была написана эта книга, представления о пространстве были неясными, парадоксальными, противоречащими друг другу. Достижения космонавтов и полеты межпланетных ракет, безусловно, ввели пространство «в моду»: пространство того, пространство сего – пространство живописи, пространство скульптуры и даже музыки; однако огромное большинство людей, большая часть публики понимали под словом «Пространство» (непременно с большой буквы) с его новыми, особыми коннотациями всего лишь космические расстояния. По традиции этот термин заставлял вспомнить лишь математику, (евклидову) геометрию с ее теоремами, а значит, некую абстракцию: содержащее без содержимого. А в философии? Чаще всего пространством пренебрегали, держали его за одну из многих «категорий» (одну из «априорных форм», как говорили кантианцы: один из способов упорядочить феномены чувственного мира). Иногда на него списывали все иллюзии и заблуждения: оно обращает вовне внутреннее «я», желание и действие – а значит, психологическую жизнь – на внешнее, инертное, дробящее и дробное (наряду с языком и так же, как язык, по Бергсону). Что же касается наук о пространстве, то они делили его между собой, разбивая на части в соответствии с упрощенными методологическими принципами: географическое пространство, социологическое, историческое и пр. В лучшем случае пространство понималось как порожняя среда, содержащее, безразличное к содержимому, которое, однако, можно определить по некоторым негласным критериям: абсолютное, оптико-геометрическое, евклидово-декартово-ньютоново. Если наличие «разных пространств» и допускалось, то они объединялись в общий концепт с весьма расплывчатыми границами. Плохо усвоенное понятие относительности оказывалось в стороне от этого концепта, различных репрезентаций, а главное, повседневности, отданных на откуп традиции (трехмерное пространство, разделение пространства и времени, метра и часов и т. д.).
Парадоксальным образом – иначе говоря, (дьявольски) противоречиво, причем это противоречие замалчивается, не признается, не эксплицируется, – на практике существующее общество и существующий способ производства двигались в ином направлении, нежели фрагментарные репрезентации и научные знания. Изобреталось (кем? политиками? Нет, скорее их сподвижниками и прислужниками-технократами, облеченными значительной властью и авторитетом) пространственное планирование, причем главным образом во Франции; предлагалось ни много ни мало рационально обустроить, смоделировать французское пространство, которое, как считалось (не без оснований), будучи предоставлено «ходу вещей», приобрело скверный вид и неудачную структуру: там запустение, тут столпотворение и т. д. Некоторые вопросы вызывала, в частности, уже «стихийная» ось, идущая от Средиземного моря к северным морям через долины Роны, Соны и Сены. Предполагалось строительство «городских центров равновесия» вокруг Парижа и в некоторых регионах. Управление благоустройства территории и регионов, мощная централизованная организация, не знала недостатка ни в средствах, ни в амбициях: производство гармоничного национального пространства – наведение порядка в «дикой» урбанизации – подчинялось лишь погоне за выгодой.
Сегодня уже ни для кого не секрет, что эта оригинальная попытка планирования (не совпадавшая ни с планами материальных балансов, ни с государственным контролем капиталовложений, то есть с планированием финансовым путем) была сломлена и почти сведена на нет неолиберальными силами; по-настоящему повторить ее с тех пор не удалось.
Отсюда примечательное – и, однако, мало кем примеченное – противоречие между теориями пространства и пространственной практикой. Противоречие, скрытое (можно даже сказать, задушенное) идеологиями, вносившими путаницу в споры о пространстве, перескакивавшими от космоса к человеку, от макро к микро, от функций к структурам без всяких концептуальных и методологических оговорок. Весьма смутная идеология пространственности наталкивалась на рациональное знание, эффективное, но авторитарное планирование, расхожие и банальные репрезентации.
Отсюда – попытка избавиться от путаницы; для этого (социальное) пространство, как и (социальное) время, рассматривались уже не как явления более или менее модифицированной «природы» и не просто как факты «культуры», но как продукты. Что повлекло за собой изменения в употреблении и в смысле данного термина. Говоря о производстве пространства (и времени), мы подходим к ним не как к неким «предметам» или «вещам», изготовленным вручную или машинами, но как к важнейшим аспектам вторичной природы, результата воздействия общества на природу «первичную» – на чувственные параметры, материю и все виды энергии. Они – продукты? Да, в особом смысле, прежде всего в силу своего глобального (но не «всеобщего») характера, которого не имеют «продукты» в обычном, повседневном понимании, то есть предметы и вещи, товары (притом что произведенные, но «разбитые на участки» пространство и время обмениваются, продаются и покупаются точно так же, как любые «вещи» и предметы!).
Кстати, следует подчеркнуть, что уже в этот период (около 1970 года) проблемы урбанизма вставали со всей очевидностью (чересчур яркой для многих людей, предпочитавших от них отворачиваться). Официальные тексты не способны были ни обуздать, ни скрыть это новое варварство. Так называемая урбанизация и застройка – массированные, «дикие», без всякой иной стратегии, кроме максимального дохода, без всякого рационального начала и творческой оригинальности, – приводили к явно губительным результатам, их констатировали со всех сторон. Под видом «модернизации». Уже тогда!
Как в отсутствие новых аргументов поддерживать представление (греко-латинское, то есть наше, принадлежащее нашей цивилизации!) о том, что населенный пункт, город, городское начало суть центры, средоточия, колыбели мысли, изобретательства? Отношения «город/деревня» изменялись во всемирном масштабе, порождая «экстремистские» толкования (всемирная деревня против всемирного города!). Как можно помыслить Город (его повсеместную имплозию-распад, современный Урбанизм) без ясного представления о пространстве, которое он занимает, которое присваивает себе (или отбрасывает)? Современный город и городское начало невозможно осмыслить как произведения (в широком смысле как произведения искусства, преобразующие свой материал), не поняв их для начала как продукты. Причем продукты определенного способа производства, который одновременно и истощается, и проявляется в крайних своих последствиях, и прорастает временами «чем-то иным», по крайней мере на уровне ожидания, требования, призыва. Конечно, борцы за экологию уже пробудили общественное мнение, обратив внимание на проблемы среды обитания, окружающей среды, загрязнения воздуха и воды: природа, «сырье» и материал Города, безоглядно опустошается. Но этому экологическому течению недоставало теоретического осмысления отношений между пространством и обществом, между территорией, урбанизмом, архитектурой…
Концепция пространства как социального продукта сталкивалась с известными трудностями, иначе говоря, с отчасти новой и неожиданной проблематикой.
Поскольку это понятие обозначало не любой «продукт», вещь или предмет, но совокупность связей, оно требовало углубленного толкования терминов «производство» и «продукт», а также их отношений. Как говорил Гегель, любой концепт возникает тогда, когда то, что им обозначается, находится под угрозой и движется к своему концу – и к своей трансформации. Пространство уже не может быть осмыслено как пассивное, пустое или же, как всякий «продукт», не имеющее иного смысла, кроме обмена, потребления и исчезновения. Будучи продуктом, пространство интерактивно или ретроактивно влияет на сам процесс производства: организацию производительного труда, транспорт, потоки сырья и энергии, сети распространения продуктов. Оно по-своему продуктивно и производительно, оно (будучи хорошо или дурно организованным) включено в производственные отношения и производительные силы. Следовательно, понятие пространства не может существовать по отдельности и оставаться статичным. Оно приобретает диалектический характер: это продукт-производитель, опора экономических и социальных отношений. Возможно, оно включается также в воспроизводство производственного механизма, в расширенное воспроизводство отношений, которое реализует на практике, «на местности».
Стоит сформулировать это понятие, как оно проясняет само себя и на многое проливает свет. Разве не указывает оно на очевидную вещь: реализацию «на местности», то есть в произведенном социальном пространстве, общественных отношений производства и воспроизводства? Могут ли они оставаться «подвешенными в воздухе» абстракциями, существующими только в знании и ради знания? К тому же это теоретическое осмысление позволяет понять специфику проекта (ограниченного рамками существующего способа производства) – проекта пространственного планирования. Понять, но и изменить, дополнить в зависимости от других запросов и других проектов; понять, но с учетом его качества и прежде всего того факта, что его задачей была урбанизация. А значит, начать все сначала.
Вторая, не меньшая трудность. В строго марксистской традиции социальное пространство могло рассматриваться как надстройка. Как результат действия и производительных сил, и отношений, в частности отношений собственности. При этом пространство включено в производительные силы, в разделение труда; оно связано с собственностью, это очевидно. А еще с обменом, социальными институтами, культурой, знанием. Оно продается и покупается; оно имеет меновую стоимость и потребительную стоимость. А значит, не относится ни к одному из классических иерархических «уровней» или «планов». То есть понятие (социального) пространства и само это пространство не укладываются в классическую триаду «базис – структура – надстройка». Как и время? Возможно. Как и язык? С этим надо разобраться. Стоило ли из-за этого отказываться от марксистского анализа и приверженности марксизму? Подобные предложения и намеки звучали со всех сторон. И не только по поводу пространства. Но разве нельзя было, наоборот, вернуться к истокам, углубить анализ, привнести в него новые понятия, использовать более тонкие подходы, постараться их обновить? Именно это мы пытаемся сделать в данной книге. Мы выдвигаем предположение, что пространство возникает, формируется, воздействует то на одном из «уровней», то на другом. То на уровне труда и отношений господства (собственности), то на уровне функционирования надстроек (институтов). Иначе говоря, неравномерно, но повсеместно. Производство пространства не является «господствующим» в способе производства, но связывает между собой и координирует все аспекты практики – объединяя их именно в единую «практику».
Это еще не все. Далеко не все. Если (социальное) пространство воздействует на способ производства, являясь одновременно его результатом, причиной и смыслом, значит, оно меняется вместе с этим способом производства! Это нетрудно понять: оно, если можно так выразиться, меняется вместе с «обществами». Следовательно, существует история пространства. (Как история времени, телесности, сексуальности и т. п.) Эту историю еще предстоит написать.
Понятие пространства связывает между собой ментальное и культурное, социальное и историческое. В нем воспроизводится сложный процесс: открытие (новых, неведомых пространств, континентов или космоса) – производство (пространственного устройства, характерного для каждого конкретного общества) – создание (произведений: пейзажа, города с его монументализмом и убранством). Это процесс эволюционный, генетический (то есть имеющий генезис), но подчиненный единой логике – общей форме синхронности, ибо любой пространственный механизм основан на соположении в сознании и на физическом совмещении элементов, чью синхронность производим мы…
Однако дело еще усложняется. Существует ли прямая, непосредственная и непосредственно воспринимаемая, то есть транспарентная, связь между данным способом производства (рассматриваемым обществом) и его пространством? Нет. Между ними есть зазоры: вклиниваются идеологии, накладываются иллюзии. Что мы и начинаем прояснять в этой книге. Возьмем, например, изобретение перспективы в Тоскане в XIII–XIV веках. Не только в живописи (сиенской школы), но прежде всего на практике, в производстве. Сельская местность меняется: совершается переход от феодального домена к испольщине; кипарисовые аллеи ведут от хуторов к господскому дому, где живет управляющий, – ибо сам собственник обретается в городе, он там банкир или крупный торговец. Меняется и город с его архитектурным влиянием: фасадом, линией застройки, горизонтом. Это производство нового пространства, выстроенного по законам перспективы, неотделимо от экономических изменений: роста производства и торгового обмена, подъема нового класса, важной роли городов и т. д. Но то, что произошло в действительности, отнюдь не укладывается в простую причинно-следственную цепь. Кем и для кого было придумано, порождено, произведено новое пространство? Государями и для государей? Для богатых купцов? В результате компромисса? Или городом как таковым? Здесь отнюдь не все ясно. История пространства (как и история социального времени) далеко не исчерпана!
Еще один, не менее поразительный случай, также упомянутый, но не до конца проясненный в этой работе: Баухауз; плюс Ле Корбюзье. Основателей Баухауза, Гропиуса и его друзей, в Германии в 1920–1930-х годах считали революционерами, большевиками! Из-за преследований они перебрались в США. И там показали себя практиками (архитекторами и урбанистами) и даже теоретиками так называемого современного пространства, пространства «развитого» капитализма. Благодаря своим творениям и преподавательской деятельности они внесли свой вклад в его создание – в его реализацию «на местности». Какое несчастье, какая трагическая участь для Ле Корбюзье! А впоследствии, еще раз, – для тех, кто считал крупные жилые комплексы, «коробки», специфическим жильем рабочего класса. Они не учитывали понятия способа производства, производящего также собственное пространство и получающего тем самым завершение. Под видом модернизации. У «современного» пространства есть свои четкие отличительные черты: гомогенность – фрагментация – иерархичность. Его тяготение к гомогенности объясняется различными причинами: изготовлением составных элементов и материалов, – сходными требованиями участников, – методами управления и контроля, охраны и коммуникации. Гомогенность, но без всякого плана, без всяких проектов. Комплексы создают не единство, а изоляты. Ибо, как ни парадоксально (еще один парадокс!), такое однородное пространство дробится на участки и частицы. Вдребезги! Что ведет к появлению различных гетто, изолятов, групп малоэтажных построек и псевдоансамблей, почти не связанных ни с окрестностями, ни с центрами. Причем со строгой иерархией: жилые пространства, торговые пространства, пространства досуга, пространства для маргиналов и т. п. В таком пространстве царит занятная логика, которую ошибочно сближают с информатизацией. И которая скрывает за своей однородностью «реальные» отношения и конфликты. Впрочем, судя по всему, этот закон или эта схема пространства со своей логикой (гомогенность – фрагментация – иерархичность) приобрели еще больший размах и стали почти всеобщими: аналогичные эффекты наблюдаются в науке и культуре, в функционировании общества в целом.
Таким образом, эта книга стала попыткой не только дать характеристику пространству, в котором мы живем, и его генезису, но и выяснить генезис современного общества через произведенное им пространство и с помощью этого пространства. В названии эта установка открыто не заявлена. Определим вкратце эту задачу, неотделимую от предлагаемого подхода: изучение социального пространства, его истории и генезиса, от настоящего к прошлому, – затем возврат к современности; такой подход позволяет отчасти провидеть, если не предвидеть, существующие возможности и будущее. Подобный подход не исключает локальных исследований разного масштаба, включая их в общий анализ, во всеобъемлющую теорию. Все логические импликации и переплетения понимаются как таковые, но с учетом того, что их понимание не исключает (и даже напротив) конфликтов, борьбы, противоречий. Ни, наоборот, согласий, объединений, союзов. Из того, что локальное, региональное, национальное, всемирное вытекают друг из друга и пересекаются, включаясь в пространство, не следует, что реальные или возможные конфликты в нем исчезают или отменяются. Логические импликации и имбрикации, как в пространстве, так и в других областях, приобрели в наши дни еще больший масштаб, чем во времена, когда писалась эта книга. Отношения импликации отнюдь не препятствуют появлению противоположных стратегий на рынках или в сфере вооружений. А значит, в пространстве.
Отношения между территориальным, урбанистическим, архитектурным строятся аналогично: импликации – конфликты. Уяснить это возможно, только поняв отношения «логика/диалектика», «структура/конъюнктура». Здесь они предполагаются и излагаются под определенным углом зрения; подробное их описание можно найти в другой книге (см. «Логика формальная, логика диалектическая»[1 - Lefebvre H. Logique formelle, logique dialectique / 3e еd. Paris: Messidor, 1981.]). Для философско-политической «культуры», обходящей стороной подобную «сложность» и ищущей ее в чем-нибудь другом, эти отношения, одновременно абстрактные и конкретные, являются новостью.
Социальное пространство изучается как глобальное целое. Такой подход, повторим еще раз, отнюдь не исключает точных и четко определенных исследований «на местности». Однако опасность «точечного» подхода, ценного именно тем, что он поддается контролю, а иногда и измерению, состоит в том, что он разделяет взаимосвязанные вещи, разъединяет «сочлененное». А значит, принимает или закрепляет фрагментацию. Что на практике ведет к крайней рассредоточенности, децентрализации; дробление сетей, связей и отношений в пространстве, а значит, самого социального пространства маскирует его производство! Что позволяет уклоняться от многих педагогических, логических, политических вопросов…
В заключение следует вернуться к главной идее. Способ производства, наряду с некоторыми социальными отношениями, организует – производит – собственное пространство (и собственное время). Он воплощается именно таким образом. К слову сказать, породил ли «социализм» свое пространство? Если нет, значит, социалистический способ производства пока не имеет конкретного существования. Способ производства проецирует присущие ему отношения на местность, что оказывает воздействие на эти отношения. Притом что точного, заранее заданного соответствия между отношениями социальными и отношениями пространственными (или пространственно-временными) не существует. Нельзя сказать, что капиталистический способ производства с самого начала, по вдохновению или разумению, «упорядочил» свое пространственное измерение, которому в наши дни суждено было распространиться на всю планету! Вначале он использовал уже существующее пространство, например водные пути (каналы, реки, моря), затем дороги; позже последовало строительство железных дорог, а за ними – шоссе и аэродромов. Ни один способ передвижения в пространстве не исчез полностью – ни пеший, ни верховой, ни на велосипеде и т. д. Тем не менее в ХХ веке в мировом масштабе сложилось новое пространство; его производство еще не закончено, оно продолжается. Новый способ производства (новое общество) присваивает себе, то есть обустраивает в своих целях существовавшее до него, оформленное ранее пространство. Изменения проникают в прочно сложившееся пространственное устройство постепенно, но иногда внезапно сотрясают его (так происходит с сельской местностью и сельским ландшафтом в ХХ веке).
Бесспорно, железные дороги сыграли первостепенную роль в развитии промышленного капитализма, в организации его национального (и интернационального) пространства. В городском масштабе аналогичную роль сыграли трамваи, метро, автобусы. А позже, в масштабе всемирном – воздушный транспорт. Предшествующее устройство распадается, и способ производства вбирает в себя результаты этого распада. Таков двоякий процесс, протекающий на глазах в сельской местности и в городах уже несколько десятков лет, при помощи современной техники, – но распространяющийся из центров к отдаленной периферии.
Организация централизованного, концентрированного пространства служит как политической власти, так и материальному производству, поскольку оптимизирует доходы. Общественные классы закрепляются в нем и изменяют свой облик в иерархии занятых ими пространств.
Однако намечается тенденция к формированию в мировом масштабе нового пространства – пространства, интегрирующего и дезинтегрирующего все национальное, все локальное. Этот глубоко противоречивый процесс связан с конфликтом между разделением труда в мировом масштабе – и тяготением к иному, более рациональному миропорядку. Это вторжение пространства и в пространство имело с исторической точки зрения не менее важное значение, чем завоевание господства путем вторжения в социальные институты. Главная, если не конечная точка этого вторжения: милитаризация пространства, которая (по понятным причинам) не рассматривается в этой книге, но которой завершается рассуждение, в масштабе одновременно планетарном и космическом.
Десять лет назад этот тезис, равно как и идея о гомогенном и одновременно фрагментарном пространстве (и времени!), вызвал много возражений. Как может пространство подчиняться законам целого, образовывать социальный «объект» и в то же время дробиться на мелкие осколки?
Вряд ли стоит утверждать, что недавняя и уже ставшая знаменитой теория фрактала (Б. Мандельбро) как-то соотносится с выдвинутой здесь идеей фрагментарного пространства. Можно, однако, указать, с одной стороны, на то, что эти теории появились почти одновременно, а с другой – на тот факт, что физико-математическая теория делает теорию социально-экономическую более доступной и более приемлемой. Физико-математическое пространство включает пустоты и скопления, провалы и выступы; оно сохраняет когерентность, хоть и «обрабатывается» фракционированием. Таким образом, между двумя этими теоретическими опытами существует определенная аналогия (см. ноябрьский номер журнала La Recherche, а также книгу Поля Вирилио «Критическое пространство»[2 - La Recherche. 1985. Novembre. P. 1313 sqq.; Virilio P. L’espace critique: Essai sur l’urbanisme et les nouvelles technologies. Paris: Christian Bourgois, 1984.]).
Остается выяснить, как соотносится это фрагментарное пространство с многочисленными сетями, которые противодействуют фрагментации и восстанавливают если не рациональную целостность, то по крайней мере его гомогенность. Не пробивается ли то там, тот тут, сквозь иерархичность и вопреки ей, в архитектуре или урбанистике, «нечто» такое, что не укладывается в существующий способ производства, рождается из его противоречий, не пряча их, а срывая с них покровы?
Самокритичное замечание: этой книге недостает прямого, язвительного, даже памфлетного описания производства пригородных зон, гетто, изолятов, фальшивых «комплексов». Проект нового пространства остается размытым; сегодня можно дополнить этот набросок многими уточняющими штрихами. Не всегда ясно показана роль архитектуры как использования пространства.
Тем не менее в этой книге по-прежнему есть несколько центральных моментов, и сегодня ее можно с пользой (для познания) пере-читать, вооружившись следующим подходом.
Первый этап или момент: составные элементы и анализ, с помощью которого они выделяются, «агенты» производства, полученные выгоды и т. п.
Второй этап: выявление парадигматических оппозиций: публичное и частное – обмен и использование – государственное и личное – фронтальное и стихийное – пространство и время…
Третий этап: привнесение в эту статичную картину диалектики: силовые и союзнические отношения – конфликты, социальные ритмы и время, произведенные в пространстве и пространством…
Подобное прочтение поможет этой работе избежать двойного упрека: в у-топичности (вымышленная конструкция в словесной пустоте) и а-топичности (устранение конкретного пространства, вместо которого остается лишь социальная пустота).
Анри Лефевр
Париж, 4 декабря 1985 года
I. Замысел этой книги
I. 1
Пространство! Еще несколько лет назад это слово означало всего лишь одно из геометрических понятий: пустое место. Любой образованный человек немедленно дополнял его каким-нибудь ученым термином, вроде «евклидово», или «изотропное», или «бесконечное». Принято было считать, что понятие пространства относится к математике, и только к ней. Социальное пространство? Подобное словосочетание вызвало бы недоумение.
Все знали, что понятие пространства веками разрабатывалось в философии; но из истории философии также явствовало, что науки, в особенности математика, постепенно отделялись от своего общего корня: старинной метафизики. Учение Декарта считалось решающим этапом в выработке понятия пространства и его обособлении. По мнению большинства историков западной мысли, Декарт положил конец аристотелевской традиции, в рамках которой пространство и время принадлежат к числу категорий: иначе говоря, пространство и время позволяют именовать и классифицировать факты чувственного мира, однако их собственный статус остается неопределенным – в том смысле, что их можно считать либо просто эмпирическими способами группировать чувственные факты, либо важнейшими обобщениями, стоящими выше, чем воспринимаемое чувствами. Картезианский разум поднимает пространство до уровня абсолютного. Объект, предшествующий Субъекту, res extensa, предшествующее res cogitans и явленное ему, господствует над чувствами и телами, ибо вбирает их в себя. Атрибут Бога? Порядок, имманентный всему сущему? Так после Декарта ставился вопрос о пространстве для философов – Спинозы, Лейбница, последователей Ньютона. До тех пор, пока Кант, вновь обратившись к понятию «категория», не переосмыслил его. Пространство (наряду со временем) – относительное, орудие познания, классификация феноменов, – тем не менее оторвано от эмпирики; по Канту, для сознания (для «субъекта») оно сближается с априори сознания (субъекта), с его внутренней структурой – идеальной, а значит, трансцендентальной, а значит, непознаваемой в себе.
Все эти долгие споры ознаменовали собой переход от философии пространства к науке о пространстве. Устарели ли они? Нет. Они важны не только как моменты или этапы в развитии западного Логоса. Были ли они чисто абстрактными, как предписывает угасающий Логос так называемой «чистой» философии? Нет. Они были связаны с точными и конкретными вопросами, в том числе с вопросами симметрии и асимметрии, симметричных объектов, объективных эффектов отражения и зеркальности. Эти вопросы вновь встанут перед нами в данной работе и повлияют на анализ социального пространства.
I. 2
Тогда явились математики в современном смысле, носители науки (и научности), не связанной с философией, полагающей себя необходимой и достаточной. Математики присвоили себе пространство (и время); они превратили его в свое владение, но парадоксальным образом: придумали разные пространства, неопределенное множество пространств – неевклидовы пространства, искривленные пространства, пространства с х измерений и даже с бесконечным числом измерений, конфигуративные пространства, абстрактные пространства, пространства, определяемые какой-либо деформацией, трансформацией, топологией и т. д. Математический язык, предельно общий и узкоспециальный, четко выявляет и классифицирует все эти бесчисленные пространства (чья совокупность, или пространство пространств, осмысляется, похоже, не без затруднений). Связь между математикой и реальностью (физической, социальной) была отнюдь не самоочевидной, между ними разверзлась пропасть. Математики, создававшие подобную «проблематику», оставляли ее на рассмотрение философам, которые тем самым получали возможность поправить свое пошатнувшееся положение. Вследствие этого пространство стало (вернее, вновь стало) тем, что в одной из философских традиций, платонизме, противопоставлялось учению о категориях: «умственной вещью» (cosa mentale) Леонардо да Винчи. Множащиеся математические теории (топологии) усугубляли старинную проблему, так называемую проблему «познания». Как перейти от математических пространств, то есть от умственных способностей рода человеческого, от логики, – сначала к природе, а от нее к практике и к теории общественной жизни, которая также протекает в пространстве?
I. 3
От этого наследия (философии пространства, исправленной и дополненной математикой) современная наука, эпистемология, получила и приняла определенный статус пространства – как «умственной вещи» или «умственного локуса». Тем более что теория множеств, притязающая на роль логики этого локуса, заворожила не только философов, но и писателей и лингвистов. Со всех сторон по примерно одинаковому сценарию стали возникать различные «множества» (иногда практические[3 - Sartre J.-P. Critique de la Raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960. Vol. I: Thеorie des ensembles pratiques.] или исторические[4 - Clouscard M. L’Etre et le Code: Proc?s de production d’un ensemble prеcapitaliste. Paris: Mouton, 1972.]) и сопутствующие им «логики»; причем эти множества и «логики» не имеют больше ничего общего с картезианской теорией.
С тех пор концепт умственного пространства, дурно эксплицированный, совмещающий в себе у разных авторов логическую когерентность, практическую связность, саморегулирование и отношения частей и целого, порождение подобного подобным в совокупности локусов, логику содержащего и содержимого, – концепт этот становится все более общим, его не удерживают никакие рамки. Постоянно слышится речь о пространстве того и/или пространстве сего: литературном пространстве[5 - Blanchot M. L’espace littеraire. Paris: Gallimard, 1968.], идеологических пространствах, пространстве сна, топике психоанализа и пр. Причем в этих так называемых фундаментальных, или эпистемологических, исследованиях «отсутствует» не только «человек», но и пространство, о котором тем не менее говорится на каждой странице[6 - См., например, сборник, озаглавленный «Panorama des sciences» (Paris: N. R. F., 1973); это, впрочем, наименьший из его недостатков.]. «Знание – это пространство, в котором субъект может занять позицию и говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе», – спокойно заявляет М. Фуко в «Археологии знания»[7 - Foucault M. Archеologie de savoir. Paris: Gallimard, 1969. P. 328 [Фуко М. Археология знания / Пер. С. Митина, Д. Стасова под общ. ред. Бр. Левченко. Киев: Ника-Центр, 1996. С. 180]. См. также: «перемещение смысла» (P. 196 [С. 150]), пространство множества разногласий» (P. 200 [С. 155]) и т. п.], не задаваясь вопросом, о каком пространстве он говорит и каким образом перескакивает от теоретического (эпистемологического) к практическому, от ментального к социальному, от пространства философов к пространству, где люди имеют дело с вещами. Научность (определяемая через пресловутую «эпистемологическую» рефлексию о полученном знании) и пространственность соединяются «структурно», по заранее предусмотренной схеме, которая очевидна для научного дискурса и никогда не переносится на понятие. Научный дискурс, не боясь двигаться по замкнутому кругу, противопоставляет статус пространства и статус «субъекта», мыслящее «я» и мыслимый объект, возвращаясь тем самым на позиции картезианского (западного) Логоса, который некоторые другие мыслители считают уже «закрытым»[8 - См.: Derrida J. Le vivre et le phеnom?ne. Paris: PUF, 1967.]. Эпистемологическая мысль, сопрягаясь с усилиями лингвистов-теоретиков, пришла к занятному результату. Она уничтожила «коллективного субъекта», народ как генератор того или иного языка, как носителя тех или иных этимологических последовательностей. Она изъяла конкретного субъекта, субститута Бога, давшего вещам имена. Она выдвинула на первый план неопределенное и безличное on, которое порождает язык вообще, язык как систему. Но субъект все-таки нужен – и тогда вновь возникает субъект абстрактный, философское Cogito. Отсюда новая актуализация (в модальности «нео») старой философии – неогегельянство, неокантианство, неокартезианство, включая Гуссерля, который без особых сомнений постулирует (почти тавтологическое) тождество познающего Субъекта и познаваемой Сущности, неотделимой от «потока» (переживаний), и, как следствие, почти «чистое» тождество формального знания и знания практического[9 - См. критические замечания Мишеля Клускара в его книге «Бытие и код» (предисловие). Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» решил эту проблему насильственным путем, просто сняв ее: мысль о пространстве отражает объективное пространство, как копия или фотография.]. Неудивительно поэтому, что великий лингвист Н. Хомский восстанавливает декартово Cogito (субъекта)[10 - Chomsky N. La linguistique cartеsienne. Paris: Seuil, 1969.], утверждая, что существует такой лингвистический уровень, на котором невозможно представить каждую фразу как простую конечную последовательность элементов определенного типа, порожденную простым механизмом «слева направо», и что следует выявить конечное множество уровней, упорядоченных «сверху вниз»[11 - Idem. Structures syntaxiques. Paris: Seuil, 1979. P. 27 [Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. М.: ИЛ, 1962. Вып. II. С. 418].]. Н. Хомский ничтоже сумняшеся постулирует наличие ментального пространства, обладающего определенными свойствами: направлениями и симметричностью. Он позволяет себе перейти от этого ментального пространства языка к пространству социальному, где язык становится практикой, и даже не задумывается над тем, какую пропасть преодолевает. То же самое у Ж. М. Рея: «Смысл задается как законное право замещать означаемые в одной и той же горизонтальной цепи, в пространстве упорядоченной, заранее рассчитанной когерентности»[12 - Ray J. M. L’enjeu des signes. Paris: Seuil, 1971. P. 13.]. Эти авторы, а с ними и множество других, ратующих за образцовую формальную строгость, совершают с логико-математической точки зрения образцовую ошибку – паралогизм: перескок через целую область, в обход последовательности, перескок, неявно узаконенный понятием «разлом» или «разрыв», используемым при каждом удобном случае. Они обрывают последовательность рассуждения, прикрываясь прерывностью, которая в их методологии должна быть под запретом. Тем самым создается пустота, зияние, размеры которого неодинаковы у разных авторов и в разных специальностях; этот упрек относится и к Ю. Кристевой с ее «семиотикой», и к Ж. Деррида с его «грамматологией», и к Р. Барту с его общей семиологией[13 - То же можно сказать о других авторах – как самих по себе, так и в интерпретации перечисленных выше. Например, Р. Барт пишет о Лакане: «По мысли Жака Лакана, топология психоаналитического человека отнюдь не является топологией внешнего и внутреннего или, тем более, верха и низа, но, скорее, подвижной топологией лица и изнанки, кои язык постоянно заставляет меняться ролями и – скажем в заключение и для начала – как бы вращаться вокруг чего-то такого, что „не есть“» (Barthes R. Critique et veritе. Paris: Seuil, 1966. P. 27 [Барт Р. Критика и истина / Пер. Г. К. Косикова // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 333]).]. Последователи этой школы, которая (отчасти в силу своего успеха) все сильнее склоняется к догматизму, широко используют следующий теоретический софизм: пространство философско-эпистемологического происхождения фетишизируется, а социальное и материальное поглощаются ментальным. Некоторые из этих авторов все же подозревают о существовании или необходимости опосредования[14 - Это не относится к К. Леви-Стросу, который во всех своих работах отождествляет ментальное с социальным через понятийный аппарат (отношения обмена) с самой ранней стадии возникновения общества. Напротив, Ж. Деррида, ставя «графию» перед «фонией», письмо перед голосом, или Ю. Кристева, апеллируя к телу, ищут переход (сочленение) между пространством ментальным, предварительно заданным ими, то есть предполагаемым, и пространством материально-социальным.], но большинство без лишних церемоний перескакивают от ментального к социальному.
Одно из сильных идеологических течений, весьма гордое собственной научностью, восхитительно бессознательным образом выражает господствующие – то есть принадлежащие господствующему классу – представления (быть может, скругляя их или искажая). Определенная «теоретическая практика» порождает ментальное пространство, якобы внеположное идеологии. Неизбежная логическая цепь или кольцо приводит к тому, что это ментальное пространство, в свою очередь, становится местом «теоретической практики», отличной от практики социальной и утверждаемой в качестве оси, стержня или центра Знания[15 - Этими притязаниями пропитана каждая страница указанного выше сборника «Panorama des sciences humaines».]. Двойное преимущество для существующей «культуры»: она выглядит не противницей и даже покровительницей правдивости, а в этом «ментальном пространстве» происходит множество мелких событий, которые можно либо обратить на пользу, либо использовать в полемике. О том, что это ментальное пространство удивительным образом похоже на то, где в тиши кабинетов орудуют технократы, мы еще будем говорить ниже[16 - См.: Lefebvre H. Vers le Cybernanthrope / Rеed. Paris: Denoel, 1972.]. Что же до Знания в подобном, основанном на эпистемологии определении, более или менее тонко отграниченного от идеологии или от развивающейся науки, то разве не восходит оно прямиком к гегелевскому Концепту, жениху Субъективности, наследницы великого картезианского рода?
Предполагаемое квазилогическое тождество ментального пространства у математиков и философов-эпистемологов разверзает пропасть между тремя понятиями: ментальное, материальное, социальное. Несколько канатоходцев преодолевают эту бездну под взорами восхищенных и сладко содрогающихся зрителей, но так называемая философская мысль, то есть мысль философов по профессии, как правило, даже не пытается проделать подобное «сальто-мортале». Видят ли они еще провал? Они отводят глаза. Профессиональная философия отказывается от современной проблематики знания и от «теории познания», ограничиваясь знанием абсолютным, или притязающим на абсолютное, то есть знанием истории философии и наук. Подобное знание якобы отделено и от идеологии, и от не-знания, то есть от «переживания». Это отделение невозможно осуществить, зато оно имеет то преимущество, что не мешает банальному «консенсусу», к которому многие подспудно стремятся: кто же откажется от Истины? Когда заводят речи об истине, иллюзии, неправде, видимости и реальности, каждый понимает, или считает, что понимает, чем тут пахнет.
I. 4
Эпистемологически-философская рефлексия не задала вектора развития для науки, уже давно ищущей себя в огромном количестве публикаций и трудов: науки о пространстве. Соответствующие исследования либо ограничиваются чистым описанием (не поднимаясь до аналитики, а тем более до теоретизирования), либо приводят к фрагментации и расчленению пространства. Но есть достаточно оснований полагать, что описания и фрагментации дают лишь перечни того, что находится в пространстве, самое большее – некий дискурс о пространстве, но никогда не знание самого пространства. За неимением знания пространства в дискурс и в язык как таковой, то есть в ментальное пространство, переносится большинство функций и «свойств» пространства социального.
Семиология ставит некоторые щекотливые вопросы – именно постольку, поскольку этот незавершенный способ познания распространяется вширь, не ведая своих границ, и ему следует эти границы поставить, хоть это и сложно. Когда к пространствам (например, городским) применяют коды, разработанные на основании литературных текстов, такое применение остается описательным; это нетрудно показать. Попытки же выстроить тем самым некую кодировку – процедуру расшифровки социального пространства – несут в себе риск свести это пространство к сообщению, а посещение его – к прочтению. А значит, отказаться от истории и от практики. Однако не было ли в прошлом, в XVI (Ренессанс и ренессансный город) – XIX веках, некоего единого архитектурного, урбанистического, политического кода, общего языка для жителей городов и деревень, для властей и для художников, языка, позволявшего не только «прочитывать» пространство, но и производить его? А если такой код существовал, то как он был порожден? Где, как, почему он исчез? На эти вопросы еще предстоит дать ответ.
Что же касается расчленения и фрагментации, они доходят до бесконечности – неопределенной и не поддающейся определению. Тем более что фрагментация считается научным приемом («теоретической практикой»), позволяющим упростить хаотические потоки явлений и выявить их «составные элементы». Отвлечемся пока от применения математических топологий. Послушаем, как эксперты рассуждают о пространстве живописи, о пространстве Пикассо, о пространстве «Девушек из Авиньона» и «Герники». Другие эксперты говорят об архитектурном пространстве, или пространстве скульптуры, или пространстве литературы – совершенно так же, как о «мире» того или иного писателя, того или иного творца. Из специальных научных трудов читатели узнают о разного рода специализированных пространствах: пространствах досуга, рабочих, игровых, транспортных, пространствах социальной инфраструктуры и т. п. Некоторые ничтоже сумняшеся говорят о «больном пространстве» или «болезни пространства», о безумном пространстве или пространстве безумия. Получается бесконечное множество пространств, наслоенных одни на другие (или вложенных друг в друга), – географических, экономических, демографических, социологических, экологических, политических, коммерческих, национальных, континентальных, мировых. Не забудем и о пространстве природы (физическом), пространствах потоковых (энергии) и пр.
Прежде чем подробно и точно опровергнуть ту или иную из подобных процедур, проводимых под соусом «научности», сделаем одно предварительное замечание: эта бесконечная множественность описаний и фрагментаций наводит на подозрения. Не идут ли они в русле весьма сильной, возможно, доминирующей тенденции в существующем обществе (способе производства)? При этом способе производства труд познания, как и труд физический, бесконечно дробится. Более того, пространственная практика заключается в проецировании «на местность» по отдельности всех аспектов, элементов и моментов практики социальной, причем происходит это под неослабным тотальным контролем, то есть при подчинении всего общества практике политической, власти государства. Как мы увидим, подобный праксис предполагает и усугубляет многие противоречия; о них еще пойдет речь в этой книге. Если этот анализ подтвердится, то искомая «наука о пространстве»:
а) полностью соответствует политическому («неокапиталистическому», если речь идет о Западе) применению знания, которое, как известно, все более и более «непосредственно» интегрируется в производительные силы и «опосредованно» – в общественные производственные отношения;
b) предполагает идеологию, маскирующую это применение, а также конфликты, неотделимые от в высшей степени корыстного использования в принципе бескорыстного знания; идеологию, не называющую себя таковой, а для тех, кто принимает эту практику, сливающуюся со знанием;
с) содержит в лучшем случае технологическую утопию, имитацию или программирование будущего (возможного) в рамках реальности, то есть существующего способа производства. Она оперирует, основываясь на знании, интегрированном и интегрирующем в данный способ производства. Подобную технологическую утопию, которой изобилуют все научно-фантастические романы, можно обнаружить в любых проектах, относящихся к пространству, – архитектурных, урбанистических, связанных с планировкой.
Все эти положения будут далее эксплицированы, подкреплены аргументами и доказательствами. Если они подтвердятся, то в первую очередь потому, что существует истина пространства (за анализом следует изложение, несущее эту глобальную истину), а не создание или построение некоего истинного пространства – либо общего, как полагают эпистемологи и философы, либо частного, как считают представители той или иной научной дисциплины, связанной с пространством. Во вторую очередь, это означает, что следует перевернуть, направить в обратную сторону господствующую тенденцию: тенденцию, ведущую к фрагментации, разделению, дроблению, подчиненным единому центру или центральной власти; тенденцию, реализуемую знанием и во имя знания. Совершить такой переворот нелегко; недостаточно просто заменить «точечные» исследования глобальными. Можно предположить, что он потребует значительных усилий. Для того чтобы совершить этот переворот, нужна мощная мотивация, его придется направлять по ходу самого его свершения, этап за этапом.
I. 5
Мало кто сегодня возьмется отрицать «влияние» капиталов и капитализма в практических вопросах, касающихся пространства, – от строительства жилых зданий до распределения инвестиций и разделения труда на всей планете. Но что сегодня понимают под «капитализмом» и «влиянием»? Одни представляют себе «деньги» с их способностью к воздействию или же торговый обмен, товар в самом общем виде, поскольку «все» продается и покупается. Другие более отчетливо представляют себе действующих лиц драмы: национальные и многонациональные «общества», банки, девелоперов, власти. Каждый агент, способный участвовать в процессе, обладает своим «влиянием». Тем самым за скобки выносятся одновременно и единство капитализма, и его разнообразие, а значит, противоречия. Его превращают либо просто в сумму отдельных видов деятельности, либо в сложившуюся замкнутую систему, когерентную, потому что она выдерживает испытание временем, и только поэтому. Однако капитализм слагается из многих элементов. Недвижимость, торговый капитал, финансовый капитал, каждый со своими более или менее широкими (в зависимости от эпохи) возможностями, вмешиваются в практику; их вмешательство не обходится без конфликтов между капиталистами одного или разных видов. Разного рода капиталы (и капиталисты) вместе с различными пересекающимися рынками – рынком товаров, рынком рабочей силы, рынком знаний, рынком самих капиталов, рынком земель – образуют капитализм как таковой.
Некоторые легко забывают, что у капитализма есть и иной аспект, безусловно связанный с функционированием денег, различных рынков, общественных производственных отношений, но отдельный от них, ибо главенствующий: гегемония одного класса. Понятие гегемонии, введенное Грамши, предсказывавшим роль рабочего класса в построении нового общества, до сих пор позволяет анализировать деятельность буржуазии – в частности, ту, что касается пространства. Понятие гегемонии уточняет и утончает несколько грубый и тяжеловесный концепт «диктатуры» пролетариата, которая должна последовать за диктатурой буржуазии. Оно обозначает нечто гораздо большее, чем влияние и даже чем постоянное использование репрессий и насилия. Гегемония осуществляется в отношении всего общества, включая культуру и науку, чаще всего через посредников – политиков и политических партий, но также и многих интеллектуалов и ученых. То есть она осуществляется в отношении институций и репрезентаций. Сегодня господствующий класс поддерживает свою гегемонию всеми средствами, в том числе и с помощью знания. Связь между знанием и властью становится очевидной, что никоим образом не означает запрета на критическое, подрывное знание и, напротив, обусловливает различие и конфликт между знанием на службе власти и знанием, власти не признающим[17 - Это конфликтное и, как следствие, дифференцирующее различие между «знанием» и «познанием», что упускает из виду М. Фуко в своей «Археологии знания», выделяя их лишь внутри «пространства игры» (Foucault M. Op. cit. P. 241, 244 sqq. [Фуко М. Указ. соч. С. 166]) и хронологически, путем распределения во времени (Ibid. P. 244–252 [Там же. С. 171–175]).].
Как эта гегемония может обойти стороной пространство? Разве оно не просто пассивное средоточие социальных отношений, среда их овеществленного воссоединения или сумма приемов их возобновления и продления? Нет. Ниже мы покажем, что пространство, знание и действие играют активную (оперативную, прикладную) роль внутри существующего способа производства. Мы покажем, что пространство работает, что гегемония осуществляется посредством пространства, выстраивая с помощью подспудной логики, с помощью знания и техники, определенную «систему». Порождая строго определенное пространство, пространство капитализма (мировой рынок), очищенное от противоречий? Нет. Если бы дело обстояло так, «система» могла бы на законных основаниях притязать на бессмертие. Некоторые догматичные умы колеблются между проклятиями в адрес капитализма, буржуазии, их репрессивных институтов и безудержным восхищением, неодолимым влечением к ним. Они привносят в это незамкнутое целое (настолько незамкнутое, что ему приходится прибегать к насилию) недостающую ему связность, превращая общество в «объект» систематизации, которую изо всех сил стараются завершить и закрыть. Если бы это было правдой, она не устояла бы. Откуда тогда брать слова, понятия, позволяющие дать определение системе? Все они будут лишь орудиями самой системы.
I. 6
Теорию, ищущую и не находящую себя самое из-за отсутствия критического момента, а потому снова и снова возвращающуюся к дробному знанию, – теорию эту можно назвать, по аналогии, «унитарной теорией». Задача в том, чтобы выявить или создать теоретическое единство между «полями», рассматриваемыми по отдельности, подобно молекулярным, электромагнитным, гравитационным силам в физике. О каких полях идет речь? Прежде всего о физическом – природе, космосе; затем о ментальном (включая логику и формальную абстракцию); и, наконец, о социальном. Иначе говоря, предметом исследования выступает логико-эпистемологическое пространство, пространство социальной практики, занятое чувственными явлениями, в число которых входят и воображаемое, проекты и проекции, символы, утопии.
Требование единства можно сформулировать иначе, более четко. Рефлективная мысль либо смешивает, либо разделяет «уровни», распознаваемые социальной практикой, и тем самым ставит вопрос об их взаимосвязях. Жилье, жилые здания, «жилищная среда» относятся к архитектуре. Город, городское пространство относятся к особой научной дисциплине – урбанистике. Более широкое пространство, территория (региональная, национальная, континентальная, всемирная), находится в ведении других специалистов: планировщиков, экономистов. Таким образом, все эти «специальности» либо входят, проникают одна в другую под строгим надзором главного действующего лица – политики, либо выпадают одна из другой, лишаясь всяких общих целей и всякой теоретической общности.
Унитарная теория призвана покончить с этой ситуацией, критический анализ которой не исчерпывается изложенными выше соображениями.
Познание материальной природы позволяет определить понятия на наивысшем уровне обобщения и научной абстракции (имеющей содержание). Даже связи между этими понятиями и соответствующими им материальными реалиями еще не определены, мы знаем, что связи эти существуют и что предполагаемые ими концепты и теории – энергия, пространство, время – не могут ни смешаться между собой, ни отделиться друг от друга. Все то, что в повседневном языке именуется «материей», или «природой», или «физической реальностью» – то, в чем при первичном анализе выделяются и даже разграничиваются отдельные моменты, – вновь обрело безусловное единство. «Субстанция» этого космоса (или «мира»), к которому принадлежат и земля, и род человеческий с его сознанием, «субстанция» эта – если вспомнить старинную философскую лексику – обладает свойствами, которые описываются тремя словами. Если мы говорим «энергия», то должны сразу же добавить, что эта энергия действует в некоем пространстве. Если мы говорим «пространство», то должны сразу сказать, что именно его наполняет и каким образом: обозначить действие энергии в некоторых «точках» и во времени. Если мы говорим «время», то должны сразу продолжить, указав, что именно умирает или изменяется. Пространство, взятое по отдельности, превращается в пустую абстракцию; то же самое относится и к энергии, и ко времени. Эту «субстанцию», с одной стороны, трудно помыслить, а тем более представить себе на космическом уровне, однако, с другой стороны, можно сказать, что ее очевидность бросается в глаза: и чувства, и мысль улавливают только ее.
Можно ли в познании социальной практики, во всеобщей науке о так называемой человеческой реальности, брать за образец модель, заимствованную у физики? Нет. Попытки подобного рода всегда заканчивались неудачей[18 - Это относится и к модели, заимствованной К. Леви-Стросом в периодической системе элементов Менделеева и общей комбинаторике.]. Теоретическая физика не позволяет теории обществ использовать некоторые подходы, в частности разграничение уровней, областей и участков. Она подталкивает к подходам унитарным, объединяющим разрозненные элементы. Она служит не образцом, а ограждением.
Выработка унитарной теории нисколько не мешает конфликтам внутри познания, спорам и полемикам, скорее наоборот. Даже в физике и в математике! Конфликтующие течения есть даже в науке, которую философы считают «чистой», поскольку очищают ее от диалектических моментов.
Тот факт, что физическое пространство не обладает «реальностью» без действующей в нем энергии, можно считать доказанным. О модальностях этого действия, физических связях между центрами, ядрами, скоплениями, с одной стороны, и периферией, с другой, пока остается только гадать. Теория расширяющейся Вселенной предполагает начальное ядро, первичный взрыв. Это изначальное единство космоса вызвало много возражений из-за своего почти теологического (теогонического) характера. Ф. Хойл противопоставляет ей гораздо более сложную теорию: энергия, как бесконечно малая, так и бесконечно большая, распространяется во всех направлениях. Единый центр космоса, хоть изначальный, хоть конечный, помыслить нельзя. Энергия – пространство – время конденсируется в бесконечном множестве мест (локальных пространствах-временах)[19 - Hoyle F. Frontiers of Astronomy. London: Heinemann Education Books Limited, 1955.].
Если уж соотносить теорию так называемого человеческого пространства с теорией физической, то, быть может, именно с последней? Пространство понимается как продукт энергии. Энергию можно сравнить с содержимым, занимающим пустое вместилище. Тем самым отсекаются каузальность и финализм, пропитанные метафизической абстракцией. Космос уже дает нам пример множества охарактеризованных пространств, чье разнообразие описывается, однако, унитарной теорией – космологией.
Данная аналогия имеет свои пределы. Нет никаких оснований приравнивать социальные энергии к энергиям физическим, так называемые «человеческие» силовые поля – к полям физических сил. Ниже мы подробно опровергнем подобный редукционизм – наряду с любыми другими редукционизмами. И все же человеческие общества, равно как и любые живые организмы, человеческие и нет, нельзя представить себе вне космоса (или, если угодно, вне «мира»); космология хотя и включает в себя их познание, но не может обойти их стороной, как государство в государстве!
I. 7
Как назвать раскол, благодаря которому различные пространства – физическое, ментальное, социальное – внеположны друг другу и существуют по отдельности, на расстоянии? Разнесение? Расхождение? Разъединение? Разрыв? Название здесь не важно. Важна сама дистанция, отделяющая «идеальное» пространство, принадлежащее к числу ментальных (логико-математических) категорий, от пространства «реального», пространства социальной практики. Тогда как каждое из них предполагает, обусловливает другое и зависит от него.
Какую выбрать отправную точку для теоретического исследования, которое бы прояснило эту ситуацию и тем самым преодолело ее? Философию? Нет, ибо она «причастная сторона» и в данной ситуации пристрастна. Философы внесли свой вклад в создание этой пропасти, разрабатывая абстрактные (метафизические) представления о пространстве, в том числе картезианское пространство – абсолютную бесконечную «протяженность» (res extensa), атрибут Бога, познаваемый, в силу своей гомогенности (изотропности), только интуитивно. Это тем более достойно сожаления, что философия в своих истоках поддерживала тесную связь с «реальным» пространством, пространством греческого города-государства; однако впоследствии эта связь оказалась разорвана. Это замечание не означает, что к философии, ее концептам и концепциям, нельзя обращаться. Оно означает, что из них нельзя исходить. Может быть, взять литературу? Почему бы и нет? Писатели многое описали, в частности разные местности и населенные пункты. Но какие брать тексты? Почему те, а не другие? Селин с помощью повседневного языка превосходно воплощает пространство Парижа, пригороды, Африку. Платон в «Критии» и в других диалогах замечательно описал пространство космоса и города – образа космоса. Вдохновенный Куинси, преследуя на улицах Лондона тень женщины своей мечты, или Бодлер в «Картинах Парижа» говорили о городском пространстве не менее прекрасно, чем Виктор Гюго или Лотреамон. Стоит исследователю начать искать пространство в литературных текстах, как оно находится везде и всюду: его включают, описывают, проецируют в произведение, о нем грезят и рассуждают. Из каких текстов мог бы исходить «текстуальный» анализ, какие из них считать основополагающими? Поскольку речь идет о социальной «реальности» пространства, начальной точкой отсчета стоило бы считать не столько литературу, сколько архитектуру и тексты о ней. Но что такое архитектура? Чтобы дать ей определение, нужно опираться на уже произведенный анализ и описание пространства.
Нельзя ли взять за точку отсчета общие научные понятия, находящиеся сейчас на стадии разработки и столь же общие, как и понятие текста: например, понятия информации и коммуникации, сообщения и кода, знакового множества? Но в таком случае анализ пространства рискует замкнуться в рамках одной специальности, что не позволит учитывать фрагментации и только усугубит их. Остается лишь воззвать к понятиям универсальным, которые внешне относятся к философии, но не принадлежат ни одной специальной дисциплине. Существуют ли подобные понятия? Имеет ли по-прежнему смысл то, что Гегель называл конкретными универсалиями? Это еще надо доказать. На данном этапе можно назвать понятия «производство» и «производить»: они обладают искомой конкретной универсальностью. Они выработаны философией, однако выходят за ее пределы. Несмотря на то что в прошлом ими на время завладевала та или иная научная специальность, например политэкономия, они не поддались этой узурпации. Понятия «производить» и «производство», вернув себе расширительный смысл, которым они обладали в некоторых текстах Маркса, отчасти утратили иллюзорную точность, привнесенную в них экономистами. Заново ввести их в оборот и использовать – задача не из легких. Словосочетание «производить пространство» вызывает удивление: схема, согласно которой пустое пространство предсуществует тому, что его наполняет, все еще остается в силе. Какие пространства? И что такое «производить» применительно к пространству? Мы должны будем совершить переход от разработанных, то есть формализованных, концептов к этому содержанию, не впадая в иллюстративность и не злоупотребляя примерами, то есть не создавая поводов для софизмов. Следовательно, нужно будет дать полный, развернутый разбор этих концептов и их соотношения с предельно формальной абстракцией (логико-математическим пространством), с одной стороны, и с областью чувственно-практического и с пространством социальным – с другой; в противном случае конкретно-универсальное распадется и вернется к своим составляющим (согласно Гегелю) – частному (здесь: четко описанным или очерченным социальным пространствам), общему (логическому и математическому), особенному («локусам», считающимся принадлежностью природы и наделенным только физической и чувственной реальностью).
I. 8
Каждый знает, что имеется в виду, когда говорят о «комнате» в квартире, об «угле» улицы, о «площади», о рынке, о торговом или культурном «центре», о публичном «месте» и т. д. Эти слова повседневной речи обозначают (но не изолируют) различные пространства и описывают пространство социальное. Они соответствуют определенному использованию этого пространства, то есть определенной социальной практике, которую они выражают и образуют. Слова эти соединяются друг с другом в определенном порядке. Не следует ли для начала создать их перечень[20 - См.: Matorе G. L’espace humain: L’expression de l’espace dans la vie, la pensеe et l’art contemporains. Paris, 1962 (и лексикологический указатель в конце книги).], а затем выяснить, внутри какой парадигмы они обретают значение и по правилам какого синтаксиса организуются?
Либо они образуют некий неведомый код, который анализ способен восстановить и описать. Либо же мышление может, исходя из этих материалов (слов) и этого инструментария (операций со словами), выстроить некий код пространства.
В обоих случаях мысль выстроит некую «систему пространства». Но из точных научных опытов мы знаем, что подобная система лишь косвенно соотносится с «объектом» и что в действительности она содержит лишь дискурс об объекте и связана именно с ним. Замысел, обретающий очертания в этой книге, состоит не в производстве некоего (или единого) дискурса о пространстве, но в том, чтобы показать производство самого пространства, объединив различные пространства и модальности их порождения в единую теорию.
В этих кратких замечаниях намечено решение проблемы, которую впоследствии нужно рассмотреть со всей тщательностью, чтобы понять, приемлема ли она либо же представляет собой неявный вопрос об истоках. Предшествует ли язык (логически, эпистемологически, генетически) социальному пространству, возникает ли вместе с ним или позже? Является ли он его условием или формулировкой? Тезис о приоритете языка – отнюдь не единственно возможный; быть может, виды деятельности, сопровождающиеся разметкой земли, оставляющие следы, организующие воедино различные жесты и работы, являются первичными (логически, эпистемологически) по отношению к строго упорядоченным, жестко выстроенным языкам? Быть может, необходимо выявить какие-то еще не проясненные связи между пространством и языком, внутреннюю «логичность» сцепления, изначально функционирующего как пространственность, редуцирующего хаотически данные качества посредством восприятия вещей (чувственной практики)?
Насколько можно прочесть данное пространство? Поддается ли оно расшифровке? Трудно сразу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Действительно, если понятия сообщения, кода, информации и т. д. не позволяют проследить генезис данного пространства (это положение, высказанное выше, еще нуждается в аргументах и доказательствах), то пространство уже произведенное можно расшифровать и прочесть. Оно предполагает процесс означивания. И даже если не существует единого общего кода пространства, присущего речевой деятельности или национальным языкам, то, возможно, в ходе истории сложились отдельные частные коды, влекущие за собой разнообразные последствия; так что заинтересованные «субъекты», члены того или иного общества, имели доступ одновременно к их пространству и к самим себе в качестве «субъектов», действующих в этом пространстве и понимающих его (в самом широком смысле слова).
Если существовал (видимо, начиная с XVI и вплоть до XIX века) язык определенных отношений между городом, деревней и политической территорией, кодифицированный на основе практики и основанный на классической перспективе и евклидовом пространстве, то почему и как эта кодификация распалась? Надо ли пытаться восстановить подобный язык, общий для разных членов данного общества: пользователей и жителей, властей, технических работников (архитекторов, урбанистов, планировщиков)?
Теория может сформироваться и быть сформулированной лишь на уровне перекодировки. Знание усваивается лишь через злоупотребление «правильным» языком. Его место – на уровне концептов. Таким образом, оно не заключается ни в каком-то особом языке, ни в метаязыке, пусть эти концепты и подходят науке о языке как таковой. Познание пространства не может с самого начала замыкаться в этих категориях. Код кодов? Если угодно, да, но эта функция теории по «возведению в квадрат» мало что проясняет. Если в прошлом существовали коды пространства, отличающие каждую пространственную (социальную) практику, если эти кодификации и соответствующее им пространство уже были произведены, то теория должна будет описать их генезис, их влияние, их угасание. Ясно, что подобный анализ должен вестись в иной плоскости, нежели работы специалистов в данной области: следует не подчеркивать формальную строгость кодов, но привнести диалектику в само это понятие. Оно займет место в практических отношениях и взаимодействиях «субъектов» с их пространством, с окружающими их местами. Следует показать генезис и исчезновение кодировок и расшифровок. Следует вывести на свет все содержания – социальные (пространственные) практики, неотделимые от форм.
I. 9
Сюрреализм сегодня видится иначе, чем полвека назад. Некоторые его притязания исчезли: замена политики поэзией и политизация последней, идея трансцендентного откровения. Однако эта литературная школа не сводится к литературе (которую она сначала поносила), то есть к чисто литературному событию, связанному с изучением бессознательного (автоматическое письмо), обладавшему на первых порах подрывным характером, впоследствии компенсированным всеми возможными средствами: глоссами, толкованиями и комментариями; славой и рекламой и т. д.
Ведущие деятели сюрреализма пытались расшифровать внутреннее пространство и стремились прояснить переход от этого субъективного пространства к материи, телу и внешнему миру, а также социальной жизни. Что сообщает сюрреализму не замеченное поначалу теоретическое измерение. Эта попытка достичь единства, предвосхищающая поиски, впоследствии зашедшие в тупик, раскрывается в «Безумной любви» Андре Бретона. Странное опосредующее воображение или магия («Так, поджидая женщину, я обычно открываю дверь, закрываю ее, снова открываю; закладываю деревянным ножичком ту страницу наугад открытой книги, где попалась строчка, которая может прямо или косвенно подсказать мне, о чем думает моя возлюбленная и придет ли она сейчас ко мне; потом я начинаю переставлять в комнате предметы, присматриваясь, как они выглядят рядом, отыскивая самые дерзкие сочетания»[21 - Breton A. L’amour fou. Paris: Gallimard, 1937. P. 23 [Бретон А. Безумная любовь. Звезда кануна / Пер. и послесловие Т. В. Балашовой. М.: Текст, 2006. С. 15].]) нисколько не умаляют провидческого значения данного произведения[22 - То же замечание, по прошествии стольких лет, относится и ко многим стихотворениям Элюара.]. Однако можно показать и ограниченность этих неудачных поэтических изысканий. Дело не в том, что поэзии сюрреализма недостает концептуальной разработки и обнажения смысла (теоретических текстов сюрреализма, манифестов и прочего, более чем достаточно; позволительно задаться вопросом, что останется от сюрреализма без этой надстройки). Недостатки, присущие этой поэзии, лежат глубже. Она предпочитает визуальное видимому, редко «вслушивается» и, что любопытно, пренебрегает музыкальностью «слова» и тем более центрального для нее «видения». «Словно в черной ночи условий человеческого существования появляется просвет, словно природная необходимость, соединившись с нашей волей, придает явлениям полную прозрачность…»[23 - Breton A. Op. cit. P. 6 [Бретон А. Указ. соч. С. 32].]
Этот изначально гегелевский замысел (по словам самого Бретона[24 - Ibid. P. 61 [Там же. С. 33].]) реализуется лишь через аффективную, а значит, субъективную перегрузку «объекта» (любви) повышенно экзальтированной символикой. Неявно, почти без упоминаний, постулируя гегелевскую цель истории в своей поэзии и через нее, сюрреалисты создавали всего лишь поэтический метаязык истории, иллюзорное слияние субъекта с объектом в трансцендентальном метаболизме. Словесные метаморфозы, анафоризация отношений между «субъектами» (людьми) и вещами (повседневностью)… Иначе говоря, сюрреалисты перегружали смысл, но ничего не меняли. Ибо не могли силами одного лишь языка перейти от обмена (благами) к их использованию.