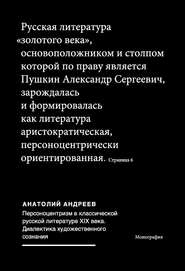скачать книгу бесплатно
Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ века. Диалектика художественного сознания
Анатолий Николаевич Андреев
Основным предметом исследования в книге стал конфликт натуры и культуры – главное содержание, смысловой и концептуальный центр всей мировой художественной культуры.
Классическая русская литература XIX века является фрагментом мировой литературы, – правда, неординарным, выдающимся фрагментом. По этому моменту целого как ни по какому другому легко судить о целом. Предлагаемая методология целостного анализа (произведения, творчества, направления, эпохи), легко переносится на любой другой фрагмент и на самое целое. В раскрытии новаторского методологического потенциала хотелось бы видеть главное достоинство книги.
Насколько желание автора расходится с тем, что получилось, это другой вопрос. Автор готов к тому, что и он сам отчасти мог принять логику души за доводы рассудка. Тем не менее дело не в авторе, а в реальной сложности проблемы, которая обозначена как «диалектика художественного сознания».
А.Н. Андреев
Персоноцентризм в классической русской литературе XIX в. Диалектика художественного сознания
Предисловие
Книга, имеющая подзаголовок «Диалектика художественного сознания», требует некоторых пояснительных замечаний.
Легко увидеть, что сквозным сюжетом книги стала духовная биография «лишнего человека», персоны.
Однако не лишний сам по себе привлек наше внимание. Лишний – это следствие и симптом определенной культурной ситуации (изредка встречающейся в жизни), определенного расклада духовных позиций. Преобладание разумного, познавательного отношения над психически-приспособительным порождает лишнего. Последнее отношение, увы, оформляется в современной культуре, чаще всего, в идеологическом, еще более «разумном», чем сам разум, ключе, то есть в таком мировоззренческом формате, где реально функции регуляции с миром осуществляет душа (психика), а кажется – что сознание. Лишний – значит отказывающийся путать познание с приспособлением. Все путают, а он не путает, потому и лишний. В контексте данной книги разумное отношение является также научным, а психоидеологическое – художественным.
И вот эта парадоксальная ситуация, где торжество разума сопровождается горем, воспроизводится средствами художественными, образно-психологическими, бессознательными! Подобное познается не подобным же (как надо бы, по логике вещей), а чем-то бесподобным: разум познается душой. Получается комедия ошибок, в которой постоянная маскировка переживаний души под рефлексию ума может сбить с толку. И сбивает – и прежде всего писателей, которых умом понять сложно, а ничем иным понять невозможно, и которые, запутываясь, убеждены, что радикально проясняют ситуацию. Что уж говорить о читателях!
Душа творцов реально превозносит ум, но ей кажется, что она срамит и разоблачает его козни, чем демонстрирует свои познавательные возможности; на самом деле, увы, душа безнадежно компрометирует свой «разумный» потенциал. Вот эта ситуация парадокса в парадоксе, парадоксально воспринимаемого, и стала главным предметом исследования в книге. Если к этой «ситуации», уже запутанно отраженной в литературе стараниями души, в свою очередь обратиться с позиций души (что сплошь и рядом и происходит), путаница возникает вселенская. «Тайна» и «чудо» – это самое вразумительное, что может выдать обескураженный «ум».
Можно сказать иначе. Основным предметом исследования в книге стал конфликт натуры и культуры – главное содержание, смысловой и концептуальный центр всей мировой художественной культуры.
Классическая русская литература XIX века является фрагментом мировой литературы, – правда, неординарным, выдающимся фрагментом. По этому моменту целого как ни по какому другому легко судить о целом. Предлагаемая методология целостного анализа (произведения, творчества, направления, эпохи), легко переносится на любой другой фрагмент и на самое целое. В раскрытии новаторского методологического потенциала хотелось бы видеть главное достоинство книги.
Насколько желание автора расходится с тем, что получилось, это другой вопрос. Автор готов к тому, что и он сам отчасти мог принять логику души за доводы рассудка. Тем не менее дело не в авторе, а в реальной сложности проблемы, которая обозначена как «диалектика художественного сознания».
Несколько слов следует сказать и о типе лишнего. Это, прежде всего, не тип в том смысле, в каком говорили о типе в литературе XIX–XX вв. – лишний не является обобщением большого количества реально существовавших, живших среди нас прототипов. Такого рода «типизацию» обычно приписывают реализму, хотя на самом деле это родовая черта искусства: в единичном представлять если не всеобщее, то типичное (некое приближение к общему). В свою очередь эта родовая черта искусства – частное проявление закона диалектики: через явление обозначать сущность.
Тип лишнего является духовным, а не морально-социальным типажом, он воплощает в себе всеобщее, суть природы человека – и в этом качестве он уникален. Это явление даже не типа; скорее, архетипа. «Типы» же в литературе и искусстве – это частное проявление архетипа, в разной степени отражающие реальные свойства последнего.
Лишний – уникальный экземпляр, что не мешает, а помогает последнему быть средоточием самого главного в человеке. Таких мало – но в них все. Приведем аналогию, имеющую отношение не к религии, а к технологии мышления: Иисус Христос единичен и уникален, но он имеет отношение к сути каждого, даже если этот каждый никогда и не слыхивал о Сыне Божием. Онегин – не Иисус, понятно, однако Евгений Онегин ярко воплощает проблемы духовного становления, исключительно выразительно, масштабно и убедительно представляет закономерности превращения человека – в личность. Он типичен в качестве человека мыслящего – и в этом смысле элитарного, избранного; для всех остальных, мало или плохо мыслящих, Онегин превращается в лишнего (потому как вопиюще не типичного). И лишние становятся пророчески типичными. Большой вопрос после этого, кого считать лишними…
Тип лишнего чрезвычайно показателен еще в одном отношении. Если человека называют венцом творящей природы, то личность (а лишний есть высоко организованная личность) с полным на то основанием следует считать венцом культуры. Развитие культуры рано или поздно приводит к устойчивой ориентации на личность, к персоноцентризму, – к такому типу отношений с миром, где с помощью сознания персона выделяется из природной и социальной среды. Вначале культурным героем являлся подлинный Герой, персонаж малокультурный, полярно противоположный лишнему. В Герое личностное начало в значительной степени редуцировано. Культ такого героя, персонажа принципиально обезличенного, закономерно приводил к культу «народа», к абсолютизации общественных ценностей (отсюда – народность, то есть героичность литературы – нормативное требование социоцентричной, равнодушной к личности культуры). Индивидуальное здесь непременно выступало формой социально значимого, социально содержательного.
Таким образом, лишний, Герой Нашего (Нового) Времени (фактически – антигерой) выступает в качестве культурной перспективы человечества. Он является знаком или симптомом смены культурных парадигм, происходящей на наших глазах: культура социоцентристского типа уступает место культуре индивидоцентристской, в которой просматриваются уже ростки персоноцентризма.
Этот момент мы и попытались зафиксировать.
Книга, предлагаемая читателю, задумана так (впрочем, сказанное ниже относится и ко всем другим моим книгам), что каждая следующая ее глава проясняет предыдущую и вместе с тем вырастает из нее. Более того. Принцип подобной соотносительности распространяется и на все мои книги, очередность которых отнюдь не случайна. Вот порядок, в котором я рассматриваю свои книги:
1. Целостный анализ литературного произведения. Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, НМЦентр, 1995. – 143 с.
2. Культурология. Личность и культура. Учебное пособие по культурологии для студентов вузов. – Минск, Дизайн-ПРО, 1998. – 180 с.
3. Психика и сознание: два языка культуры. Научная монография. – Минск, БГУ, 2000. – 233 с.
Каждая книга была ступенью к последующей и в то же время прояснялась благодаря ей. Данную, четвертую, книгу, я рассматриваю как звено, замыкающее круг книг, образующих своего рода целостность. В нее можно вклиниваться, не нарушая ее «структуру», хотя бы и бесконечно расширяя любой момент до размеров, превышающих объем сказанного о целостности.
Но с этой книгой целостность становится самодостаточной.
Автор
Введение
Русская литература «золотого века», основоположником и столпом которой по праву является Пушкин Александр Сергеевич, зарождалась и формировалась как литература аристократическая, персоноцентрически ориентированная. Именно в период «золотого века» русская литература стала осознавать близкий ей по духу «культурный код», свое предназначение; более того, бессознательно сформировала программу своего развития, ибо сразу же нащупала свою «золотую жилу»: элитарный персоноцентризм как в высшей степени перспективный вектор культуры, который и стал решающим фактором мирового признания русской литературы.
Вспомним в этой связи только три знаковых произведения: «Горе от ума», «Евгений Онегин» и «Герой Нашего Времени».
Писателями пушкинской литературной эпохи становятся аристократы; при этом, что особенно важно, не только по своему происхождению и статусу, но и по своим культурным притязаниям, позволяющим признать их аристократами духа. «В среде Карамзина и деятелей пушкинского круга, – пишет философ И.В. Кондаков, – люди были связаны прежде всего идеалами умственного, духовного избранничества, элитарности, нравственного или философского превосходства, сознательных претензий на «высшее» в интеллектуальном, образовательном, этическом и эстетическом отношениях» [1 - Культурология. ХХ век. Т.1. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с. См. с. 257.].
Определение «элитарное» образовано от французского слова «elite», что означает «лучшее», «отборное», «избранное». Элитаризм – это аристократическое, гуманистическое и при этом глубоко консервативное мировоззрение, где понятие «консервативное» несет в себе значение охранения и сохранения ценностного ядра, некоего культурного абсолюта. О каком ценностном ядре идет речь?
Логика развития русской литературы, а также наше собственное понимание высших культурных ценностей позволяют дать следующую трактовку элитаризма. Разумеется, мы не собираемся реставрировать мировоззрение «деятелей пушкинского круга»; мы делаем попытку разглядеть в аристократизме вечные ценности, и с этой целью намерены онтологически продлить аристократизм в наши, демократические дни.
Платон, первый философ-элитолог, обозначил саму суть проблемы: «…Мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его на всем протяжении своей жизни» [2 - Платон. Законы. – М.: Изд-во «Мысль», 1990. – 832 с. См. с. 158.]. Что есть совершенство?
Платон, говоря современным языком, главным считал не бессознательное существование, а сознательное достижение совершенства, которое ценно прежде всего тем, что является продуктом сознательного отношения. Иными словами, совершенство, понимаемое как духовное совершенство, достигается на пути по оси прогресса от натуры к культуре, от психики к сознанию, от человека к личности – это во-первых; во-вторых, основным инструментом совершенствования выступает разум (не интеллект!); в-третьих, механизмом совершенствования выступает постоянное и неусыпное – «на всем протяжении своей жизни» – сознательное разоблачение бессознательного (приспособительного) освоения жизни (с помощью интеллекта – не разума!), сознательное окультуривание бессознательных пространств души, что позволяет превращать бесплодное бездуховное в плодоносное духовное; в-четвертых, результатом осмысленного отношения становится превращение человека в личность, персону; в-пятых, совершенство сегодня следует понимать как противоречивый информационный процесс, интерпретируемый с позиций тотальной диалектики.
Разум, диалектика, личность, элита, духовный аристократизм, культура: вот звенья одной информационной парадигмы.
Разумное, культурное отношение – вот идеология элиты. Может ли такое отношение быть не консервативным?
Нет, не может, ибо консерватизм в культурном смысле выступает синонимом объективного, разумно обоснованного и – в данном контексте – истинного.
Таков культурный код, такова в свернутом виде, в виде мировоззренческих архетипов и матриц, культурная программа русской литературы «золотого века», а значит, и «серебряного века» (пусть отчасти), и любого другого века, настоящего и грядущего. Код он и есть код, нечто сущностное, присущее феномену, код невозможно изъять из художественного дискурса; его можно в той или иной степени либо активизировать, либо нейтрализовать.
Итак, главные герои классических произведений русской литературы XIX–XX вв. – персонажи с повышенной персоноцентрической валентностью, которые если и не противостоят народу, то так или иначе отделяют себя от народа, культивирующего в своей среде бессознательное существование, но никак не достижение совершенства. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров (а не П.П. Кирсанов, как ни парадоксально), Обломов, Болконский, отчасти Раскольников, многие герои Чехова (Гуров из «Дамы с собачкой», Николай Степанович из «Скучной истории», г. N. из «Дома с мезонином», «учитель словесности» Никитин, Лаптев из «маленького романа» «Три года»), бунинский Арсеньев, булгаковский Мастер; даже в народном романе «Тихий Дон» главный герой Григорий Мелехов стал главным именно потому, что его уровень персоноцентрической валентности оказался заметно выше, чем у всех остальных; даже среди героев социоцентрически ориентированной деревенской прозы самыми колоритными оказываются «чудики», то есть маленькие люди с высоким градусом персоноцентризма. «Маленький человек», персонаж «униженный и оскорбленный», не стал магистральным героем классической русской литературы – при всем том, что именно ему отводилась роль противовеса «лишним людям». Либо «лишний» – либо «маленький». Русская литература в своих вершинных достижениях очевидно равнялась на «лишнего». Часто отрицательными сатирическими героями становились «мертвые души» (в чеховском варианте – это люди «в футляре») – именно потому, что они изображались с позиций мироустройства, где доминирует культ здоровой духовности, живой просвещенной души. «Мертвые души» превращались в ностальгию по душам живым.
Мировые достижения русской литературы, как представляется, связаны прежде всего с противоречивым культом лишнего, то есть крайне необходимого культуре персонажа. Диалектика души неотделима от диалектики сознания, а то и другое – способы существования личности, вечно лишней, с точки зрения социума.
Более того, следует сказать прямо и недвусмысленно: мировые достижения любой литературы связаны с гуманитарным законом персоноцентризма: персоноцентрическая валентность передовых литератур оказывается выше, нежели персоноцентрическая валентность породившей их эпохи. Именно разница потенциалов двух систем идеалов – гуманистических (персоноцентрических) и авторитарных (социоцентрических) – обеспечивает литературе необходимую художественную пассионарность, которая замешана на экзистенциальном веществе, а именно: воле к истине. Культурный взрыв – это всегда прорыв в сфере персоноцентризма.
И напротив: уклонение с персоноцентрического пути, ослабление персоноцентрической валентности или непонимание культурной ценности персоноцентризма – причина кризиса всех национальных литератур мира без исключения.
Очевидно, что в предлагаемой работе мы исходим из некой аксиоматической данности: персоноцентризм является высшей культурной ценностью, культурной перспективой и вектором художественной эволюции. Обоснованием этого глубокого в своей культурной значимости тезиса мы сейчас заниматься не станем, поскольку это сделано в наших ранее опубликованных работах [3 - Теория литературы. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 1. Художественное произведение. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 200 с.; Теория литературы. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 2. Художественное творчество. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 264 с.; Основы теории литературно-художественного творчества. Пособие для студентов филологического факультета. – Минск, БГУ, 2010. – 216 с.].
В свете сказанного любопытно посмотреть на эволюцию персоноцентрической традиции в русской литературе.
Где-то с середины ХIХ в. в русском обществе начинает складываться другая социальная страта – разночинцы, уже не сословие, а сообщество людей, связанных определенными убеждениями и идеями, которые носили глубоко социальный (не личностный!) характер. По архетипу – это реанимация архаической героики. Вот характеристика интеллигенции нового типа: «Другая интеллигенция ассоциировалась уже не с аккумуляцией всех достижений отечественной и мировой культуры, не с концентрацией национального духа и творческой энергии, а скорее с политической «кружковщиной», с подпольной, заговорщицкой деятельностью, этическим радикализмом, тяготеющим к революционности (вплоть до террора), пропагандистской активностью и «хождением в народ». Принадлежность к подобной интеллигенции означала уже не столько духовное избранничество и универсальность, сколько политическую целенаправленность – фанатическую одержимость социальными идеями, стремление к переустройству мира, готовность к личным жертвам во имя народного блага» [4 - Культурология. ХХ век. Т.1. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с. См. с. 258.].
В границах новой идеологии этого нового русского сообщества начинает развиваться другая стратегическая линия русской литературы с ярко выраженной социоцентрической ориентацией. На первое место здесь начинают выходить постановка и разрешение злободневных вопросов, связанных с «существованием» – с социальным переустройством русского общества, критикой его социальных пороков. Все это подразумевало борьбу, гражданскую активность, классовую позицию. На смену духовно-аристократическому credo «зависеть от царя, зависеть от народа… Не все ли нам равно?» пришел демократический императив: «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». На смену философско-критическому реализму пришел реализм социально-критический. Одно дело аналитически препарировать установки косного социума с позиций личности, и совсем иное – критиковать обветшавшую идеологию с позиций иной, революционной идеологии. Личностью ты можешь и не быть, а вот гражданином стать обязан. Новое литературное движение с его ярко выраженными социальными интересами и пристрастиями противоречиво соседствовало с той русской литературой ХIХ века, которая по традиции ориентировалась на личность как точку отсчета в стремительно демократизирующемся мире.
Коротко говоря, персоноцентрический вектор в развитии литературы стал меняться на социоцентрический.
Смена вех (векторов) – это особый культурный сюжет, и в данном случае для нас он является второстепенным. Цель монографии – определить суть и законы функционирования феномена, имя которому персоноцентрический вектор в развитии классической русской литературы XIX в.
Что касается дальнейшей эволюции персоноцентрической традиции в русской литературе в XX в., то этой проблематике посвящена наша следующая монография «Персоноцентризм в русской литературе XX в».
Часть 1. А.С. Пушкин
1.1. Культурный архетип лишнего человека
(роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)
1
Человек – велик.
Человек – комичен.
Человек – трагичен.
Велик – благодаря разуму, который выделяет человека из природы и отделяет от нее. Человек становится венцом творящей природы, ибо только ему дано с помощью сознания познать её законы.
Комичен – вследствие своей фатальной подвластности природе, реализующей своё царственное воздействие на человека с помощью психического, чувственно-эмоционального (внесознательного) управления, базирующегося на инстинктивных программах.
Трагичен – потому что вынужден носить в себе создавшие его непримиримые начала: величие и комичность, вынужден примирять два разрывающих его полюса, несмотря на то, что не в силах сделать это.
Человек – целостен: велик, комичен и трагичен одновременно. Но по-разному. Разница заключается в том, хватает ли у него величия (способности осознавать), чтобы разглядеть свою реальную силу и слабость, или он мистифицирует, комически искажает столь же реальную зависимость от «сверхъестественных» «сил зла». Видеть свою комическую изнанку, осознавать себя как часть природы – тоже один из признаков величия. Быть нерассуждающим рабом природы, смиренно подчиняться тобой же со страху выдуманным богам и смирение это лицемерно ставить себе же в заслугу – вот высшая степень комизма.
Соответственно трагизм, духовное родовое пятно личности, также приобретает величественный или комический оттенок.
Такова одна из современных версий о духовной сущности и структуре личности – версия, вобравшая в себя по крупицам всё наиболее жизнеспособное в духовном плане, создававшееся веками и поколениями лучших умов человечества. Думается, есть все основания считать Александра Сергеевича Пушкина одним из тех, кто чувствовал и понимал глубину и величие этой версии и сотворил один из самых её впечатляющих художественных вариантов.
В 1827 году, размышляя о феномене художественного «сплава» и составляющих его компонентах (следовательно, в определённом смысле – о природе художественного творчества), Пушкин замечает: «Есть различная смелость: Державин написал: «орёл, на высоте паря,» когда счастие «тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло».
Описание водопада: Алмазна сыплется гора
С высот и проч.
Жуковский говорит о боге: Он в дым Москвы себя облек…
Крылов говорит о храбром муравье, что
Он даже хаживал на паука». [5 - Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. /Изд-во АН СССР. – М.-Л., 1951. —Т.7, с. 66–67.]
Далее, приведя характерные примеры из Кальдерона и Мильтона, иллюстрирующие ту же мысль, Пушкин обобщает: «Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические». [6 - Там же.]
Ещё один род смелости – употреблять до того не введённые в литературный оборот слова – Пушкин оценивает следующим образом: «Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!» [7 - Там же.]
Наконец, гениальный поэт, выступая в данном случае как безупречный аналитик, подводит итог: «Есть высшая смелость (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.): смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию, – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'а, Гёте в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе». [8 - Там же.]
Итак, Пушкин различает смелость стилевую, новаторство образно-поэтического порядка, и смелость («высшую смелость») собственно содержательную, восходящую к более или менее развёрнутым представлениям о концепции личности. «Изобретение», «план обширный» – это не что иное, как порождённая творческой мыслью новая, гениально обобщённая до степени типа духовная программа. Причём приоритет духовно-содержательного компонента творчества, недвусмысленно выделенный Пушкиным, является для него же не беглым заметочным эпизодом, а тщательно продуманной принципиальной позицией. Это подтверждается и другими мыслями Пушкина, высказанными в разное время и по разным поводам. «Что такое сила (здесь и далее в цитате курсив Пушкина – А.А.) в поэзии? сила в изобретении, в расположении плана (т. е. в концепции личности – А.А.), в слоге ли?» «Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира – всё более её требуют творчества (fantaisie) воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?
Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». [9 - Там же, с. 41–42.]
Речь, конечно, не о трактовке Пушкиным проблемы, традиционно обозначаемой как соотношение содержания и формы. Слишком общие высказывания мало что прояснят в этом смысле. Однако слова поэта-теоретика существенны в другом отношении (тогда, правда, они не несли того дискуссионного подтекста, который актуализировался в наше время, когда искусство вздумало начинаться «там, где кончается человек»): у него нет сомнений, что художественная ценность произведения тем выше, чем более значима его духовная подоплёка, ставшая предметом художественного исследования.
Именно внеэстетическая проблематика требует «единого плана», который следует понимать, конечно, не как собственно эстетический план, некую композицию себе, как таковую – а как отражение сопрягаемых мировоззрений героев, упорядоченную систему ценностей, организованную в иерархическую вертикаль. Создание подобной иерархии (единого плана) и требует «постоянного труда». Пушкин прекрасно отдавал себе отчёт в том, что «истинно великое» может быть только по человечески великое, но никогда – как собственно эстетическая, поэтическая смелость.
Работать, творить – это значит прежде всего мыслить. Глубиной мысли измеряется духовная и творческая зрелость. Такой вывод находит подтверждение и в наблюдениях над собственным творчеством. Вот, в частности, строки из письма к Н.Н. Раевскому-сыну, свидетельствующие о чуткости Пушкина к «смутному» моменту превращения проблемы духовной в собственно творческую (письмо относится ко времени работы над трагедией «Борис Годунов» – произведению, в основу которого положен «план», плод собственного постижения философии власти): «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (выделено мной – А.А.). [10 - Там же, т.10, с.776.]
Попытаемся с этих позиций взглянуть на роман в стихах «Евгений Онегин» и ответить на ряд вопросов: чем определяется его никем не оспариваемое «истинное величие»? Есть ли в нём «высшая смелость» – смелость «изобретения», творческий подвиг, реализовавшийся в «едином плане», и в чём, наконец, суть этого плана?
Почему в качестве «теста» на духовную и художественную зрелость избран именно «Евгений Онегин»?
Расчленение пушкинской творческой биографии на три этапа, три семилетия (ранний – 1816–1823; зрелый – 1823–1830; поздний – 1830–1837) является в значительной мере условным. [11 - Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С. 253–258.] Вместе с тем центральное место «Евгения Онегина», работа над которым хронологически совпадает со «зрелым» семилетием, в творческой и духовной судьбе поэта не вызывает сомнений. «Запечатлевшая процесс формирования пушкинской картины мира (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.), эта книга стала бесспорно вершинным явлением национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода программу русского классического романа как центрального жанра нашей литературы; она в сжатом, свёрнутом виде предвосхитила основные узлы человеческой проблематики этой литературы; (…). Не будет ничего удивительного, если со временем обнаружится, что в «Онегине» – заведомо исключающем возможность прямого следования его неповторимой «традиции» – содержится тем не менее также и программа русского литературного развития в целом (…)». [12 - Там же, с. 258–259.]
Роман в стихах «Евгений Онегин» и будет интересовать нас именно в данном, исключительном своём качестве – в качестве «программы русского классического романа», а также «программы русского литературного развития в целом». Основополагающее начало «программы» сосредоточено в «пушкинской картине мира», в которой особым образом проинтерпретированы «основные узлы человеческой проблематики». Иначе говоря, Пушкин чётко сформулировал (настолько чётко, что в характере постановки проблемы содержалось потенциальное решение), а затем и «решил» проблему, творчески воплотил, «изобрёл» свой «план», «картину мира», внутренне согласованную систему духовных ценностей в форме художественной модели. Познать же образную модель в отношении её «истинного величия» можно только одним способом: рационально-логически «разложить» её, выявить сущностное ядро.
К сказанному следует добавить, что уникальность «Онегина», где, словно в зерне, в «свёрнутом виде» была заложена логика пути одной из немногих величайших литератур мира, видится ещё и в том, что общекультурное его значение выходит далеко за рамки национальной или, если угодно, цивилизационные (России как цивилизации). Духовно-эстетический масштаб романа, его совместимость с разноуровневыми, разноплоскостными, разнородными измерениями и точками отсчёта, его предрасположенность к любой конструктивно, жизнеутверждающе ориентированной ментальной программе – его, коротко говоря, целостная природа, открытая законченность, которая является одновременно моментом целостности иных уровней и порядков (а потому способная репрезентировать свойства универсума) – требует многопланового контекста. «Евгений Онегин» – это явление и поэтики (стиля), и национального самосознания, и духовно-психологических архетипов homo sapiens'а, и спектра нравственно-философских смыслов, и «тайной» личной свободы, и явной общественной необходимости – и т. д. и т. д. Взаимные метастазы макро– и микроуровней с трудом поддаются умозрительному расчленению.
И тем не менее мы, в свою очередь, попытаемся рассмотреть «Онегина» в таком ракурсе, который даёт возможность обнаружить «зерно» целостного произведения, ту «программу программ», которая определила духовный состав и поэтическую структуру (в широком смысле – форму) романа в стихах, и, далее, заложила потенциал эффективного воздействия на все стороны и уровни личного и общественного сознания.
Пушкин счёл необходимым предпослать роману эпиграф, в котором заинтересованный читатель мог бы отыскать много любопытного: «Проникнутый тщеславием, он обладал ещё той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.)». [13 - Здесь и далее текст романа «Евгений Онегин» цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собр. соч.: В 6 т. /Изд-во «Правда». – М., 1969. – Т.4. (курсив автора, жирный шрифт мой – А.А.).] Во-первых, он написан по-французски – на языке страны, славящейся своей рациональной культурой и высоко чтущей ее. Во-вторых, прозаический отрывок пронизан аналитизмом, направленным на выявление неоднозначного характера соотношений разных, даже противоположных качеств и свойств личности: тщеславие в сочетании с особого рода гордостью (следствие чувства превосходства, быть может мнимого), порождающей равнодушие в оценке своих как добрых, так и дурных поступков. Перед нами образец того, что можно назвать вмешательством ума в дела сердечные, или, как выразится чуть ниже романист, «ума холодные наблюдения». Иначе говоря, смысловой подтекст основан на разведении функций «ума» и «души». В-третьих, важно, чтобы сочинённый эпиграф был якобы извлечением из частного письма, что свидетельствует об исключительном внимании автора к частной, личностно ориентированной жизни (своеобразному культу личности), единственно достойной просвещённого интереса читателей. В-четвёртых, отметим духовную доминанту анонимно разбираемой анонимной личности (но по закону художественного сцепления ситуаций, эпизодов и фрагментов переносимой на героя одноимённого романа): чувство превосходства. Выделенность, суверенность личности – вновь на первом плане. В-пятых, проникновение подобных характеристик в частную переписку – свидетельство укорененности обозначенного типа личности в жизни, распространенности его и невымышленности. В-шестых, предпослание французского текста русскому роману наводит на целый ряд «сопоставительных» ассоциаций, среди которых выделим погружение «Онегина» в общеевропейский культурный контекст, связывающий главного героя частными, глубинными нитями с духовных климатом эпохи (эти ассоциации будут поддержаны и развиты в романе: вспомним, например, круг чтения, формировавший духовный кругозор Онегина, Татьяны, Ленского).
Следующее за эпиграфом посвящение П.А. Плетнёву («Не мысля гордый свет забавить..».), закрепляет обоснованность противостояния личности («души прекрасной», способной оценить «поэзию живую и ясную», «высокие думы и простоту») и «гордого света». Несмотря на то, что «ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы» подаются как не вполне достойный «залог» «души прекрасной, святой исполненной мечты», у читателя возникает двойственное впечатление: наблюдения и заметы вряд ли порадуют целеустремлённую, пристрастную «душу» прежде всего своей непредвзятостью; тем не менее автор не стремится разделить высокие, но, очевидно, иллюзорные идеалы, а отдаёт предпочтение реальной жизни. «Пристрастному» («рукой пристрастною прими»), субъективному автор сознательно противопоставляет холодную беспристрастность, объективность. Вновь мы сталкиваемся с размежеванием, характерным для эпиграфа: «хотел бы я» разделить мечты и иллюзии с прекрасной душой, но ум (на основании «сердца горестных замет») заставляет видеть реальность такой, какова она есть. Душа приукрашивает жизнь (из лучших, надо полагать, побуждений), обитает в мире миражей, а ум адекватно отражает жёстокую реальность, развенчивая (тоже из лучших побуждений: из уважения к истине) «святые мечты», жить с которыми, возможно, и приятно, но которые не соответствуют действительности.
Установка персонажа, которого принято называть «образ автора», вполне ясна. Характеризуя свой «залог» (роман) как «собранье пёстрых глав», повествователь комментирует далее пестроту, понимая её как разнородность (глав – «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных»), спаянную тем не менее («собранье» глав) наблюдениями. Пёстрый контекст необходим, чтобы одну мировоззренчески весьма значительную фигуру, выросшую из «пестроты» и вступившую с ней в многосложные отношения, показать всесторонне. Такую установку следует оценить как диалектическую, способствующую созданию многоуровневой целостности произведения.
Все указанные смыслы, смысловые цепочки и узоры, складывающиеся в смысловую тенденцию, обнаруженную в самом начале романа, можно было бы считать достаточно произвольными, если бы они не были актуализированы и детерминированы более общим, концептуальным контекстом всего произведения (именно на это ориентирует нас методология целостного анализа[14 - Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с.]). В эпиграфе или посвящении – моментах целого – ощутима логика всего целого. В этой связи интересно отметить ещё один штрих: «наблюдения» и «заметы» сам автор относит к возрасту, который называет «незрелыми и увядшими летами». Итак, «образ автора» (который, думается в данном произведении в равной мере можно считать как лирическим героем, так и повествовательным) поделился чрезвычайно ценной информацией: будущая мировоззренческая концепция и модель жизни – плод «незрелых», но уже «увядших» лет. Если незрелость поражена недугом увядания – следовательно, лирический герой духовно весьма близок Онегину, чья мировоззренческая траектория недвусмысленно очерчена в этих оксюморонных эпитетах (всё это потом в полной мере подтвердится в романе).
Речь, конечно, не о том, что перед нами духовные близнецы или двойники. В дальнейшем повествователь специально подчеркнёт недопустимость и ошибочность отождествления, которое значительно обеднило бы роман, лишив его перспективы, восходящей категории высшей авторской нравственно-философской нормы:
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной.
В чём-то они даже антиподы. Однако безвременно увядшие лета – слишком прозрачный намёк, чтобы им пренебречь. Духовное родство (родство по недугу) – это, с одной стороны, свидетельство уже заявленной типичности, невыдуманности Онегина, а с другой – залог глубокого, заинтересованного духовного исследования (как себя самого: есть личный мотив, личный интерес). Принцип параллельного героя – чрезвычайно ёмкий художественный принцип, очень удачно использованный Пушкиным.
Указанный мотив родства имеет и ещё одну сторону. Пушкин сознательно и дерзко размывает грань, отделяющую личность писателя от личности вполне условного героя – «образа автора». В определённом смысле Пушкин делает себя (точнее, представление о себе, основанное на субъективной самооценке) почти персонажем художественного произведения. Тем самым он подчёркивает условность границ между жизнью и литературой.
Такой демонстративно обнажённый вариант – достаточно редкий случай для классической литературы. На это способны только те, для кого главное в жизни не литература, а жизнетворчество, отражённое в литературе.
Таким образом, Онегин становится модификацией того духовного типа, который воплощён и в образе автора, и, отчасти, в жизнетворчестве самого реального Пушкина. Эти ипостаси взаимно отражаются, подчёркивая и обогащая разнонаправленность тенденций, составляющих суть их базового архетипа. Онегина необходимо рассматривать и в данном «однородном», архетипическом контексте – в этом также проявляется свойство целостности, присущее взаимосвязанным обществу, личности художественному произведению.
Между прочим, в проекции жизнетворчества на литературу (уже новейшую литературу, с богатейшей культурой взаимообщения и взаимообогащения духовного и эстетического) заключается смысл одной из заложенных Пушкиным «программ русского литературного развития в целом».
Познание художественной целостности предполагает не просто многосторонний, многоаспектный аналитический обзор, но выявление внутренне упорядоченной, многоуровневой структуры (так сказать, познание законов органического взаимосочетания и взаимосочленения горизонтальной структуры с вертикальной). Смысловой центр (художественное ядро) разворачивается на всех остальных уровнях (содержательных и поэтических), и познание их специфических функций и свойств есть одновременно познание этого «ядра».
Что же считать таким ядром в произведении (или, иначе сказать, что составляет сердцевину творческого метода писателя)?
Ответ на этот вопрос во многом содержится уже в первой главе, которая по отношению ко всему роману является тем же, чем роман – по отношению к русской литературе: именно здесь обнаруживается смысловой генетический код, семантический первотолчок, зерно концепции (зерно метода). «Первотолчок» этот облечён в явление, которое обозначено как «недуг», или, по-другому, внутреннее, экзистенциальное, как сказали бы сейчас, противоречие («русской хандры»), какие противоположные начала в сознании и душе Онегина вступили в конфликт – этот вопрос станет главным для всего романа.
Намёки-сигналы, тревожные предвестники (или отголоски: это как посмотреть) конфликта в форме своеобразных смысловых вкраплений можно обнаружить уже в эпиграфе и посвящении. А далее – последовательно и целенаправленно отслеживается «странное», т. е. противоречивое, неподдающееся идентификации в рамках одномерной логики, поведение героя (сопровождаемое противоречивым отношением к нему повествователя), непосредственно подводящее к «недугу» и, по закону диалектической (целостной) обусловленности, само чреватое этим недугом (то же самое можно сказать и о «параллельном» отношении повествователя).